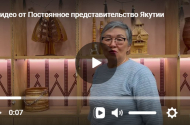Мариэтта Чудакова: «Накопились такие горы лжи!»

Писательница и литературовед Мариэтта Чудакова об ответственности ученого, о необходимости рассказать правдиво и полно о жестокой советской истории, об исчезновении Альфреда Бема, об Аркадии Белинкове и дневниках Михаила Булгакова. Автор и ведущий Иван Толстой.
Иван Толстой: Гость нашей программы - историк литературы, профессор Мариэтта Чудакова. Мариэтта Омаровна, Юрий Тынянов говорил: "Там, где заканчивается документ, там я начинаю". То есть он предполагал, что несет ответственность за те слова, которые будут принадлежать уже ему, а не документу. А насколько сегодня ответственны авторы историко-литературных сюжетов?
Мариэтта Чудакова: Даже Тынянов, говоря, что "там я начинаю", имел в виду, что документ никогда не дает полноты сам по себе, не всегда он дает какое-то доподлинное знание, его нужно додумывать, дописывать. У нас положение необычное, раз вы говорите про сегодняшний день. Накопились такие горы лжи! Всегда, во все времена что-то скрывается, что-то тайное потом становится явным, но сейчас становится все более и более ясно, что это - горы. Я сказала несколько лет назад в кругу коллег, что Сталин нас ткнул носом в прошлое, в его смрад, и мы никак не можем лица поднять. Хотелось бы уже задуматься о сегодняшнем, но это невозможно, потому что появляются все новые и новые документы.
Я писала недавно статью об осведомителях в доме Булгакова. Сидела в ФСБ не вылезая, и не раз говорила себе, что, может быть, чем-нибудь менее смрадным заниматься, менее тяжелым и кровавым. Но мы занимаемся и занимаемся этим. Ответственность исследователя сегодня в том, чтобы не цитировать с важным видом показания под следствием, делая вид, что это факт исторический. А эти опыты уже делаются. Человек под следствием говорит, что у его тестя на даче происходили оргии и прочее, а исследователь или человек, считающий себя исследователем, ясно цитирует это. Надо понимать, что к этим пыточным протоколам надо соответственно относиться.
Иван Толстой: А найденные вами в архивах ФСБ доносы на Булгакова, отчеты осведомителей?
Мариэтта Чудакова: Это не я нашла, это ФСБ сама предъявила. Я нашла другое. Я искала двух людей, которые упоминаются в дневнике Елены Сергеевны. Про одного она говорила мне еще при жизни, до того как я читала дневники, что о таком-то они знали, что он осведомитель, а второй просто упоминается в дневнике и не узнать, кто он – посланник власти или какой-то вредящий человек. Я долгие годы о них не могла найти ни одного слова, пока не поняла, что они должны были кончить плохо. Просто сделала такое предположение и стала искать в ФСБ среди дел расстрелянных и реабилитированных.
Один оказался реабилитирован, другой – нет, поскольку там огромные залежи не реабилитированных. Мало народа, кто может это выполнять, люди очень стараются в военной прокуратуре это делать, но в первую очередь они занимаются теми, о ком просят родственники, запрос подают, потому что какие-то небольшие льготы за это положены. Я нашла у них этот документ, мне сказали, что он не реабилитирован, нельзя это дело выдавать. Я подала запрос и получила справку о его реабилитации. Он был осведомителем, но он не был английским шпионом, за что был расстрелян. Это ужасы нашей жизни.
Я люблю заниматься поэтикой, литературным процессом, и вот когда я сидела над этим, подходила время от времени к окну посмотреть на Кузнецкий мост и передохнуть, я говорила себе, что, может быть, это неправильно, не надо так много времени на это тратить, а, с другой стороны, это наша история, это же было у нас, в нашей стране, мы это допустили, значит, надо сидеть уткнув нос в это зловоние, ужас и кровь.
<...> Дневник Булгакова найден несколько лет назад. То есть, он лежал спокойно. Они выдали сначала машинопись, а потом, спустя несколько лет, фотокопию, с которой делалась эта машинопись. "А это мы только теперь нашли". Но мне достаточно архивного опыта, я еще посоветовалась со своей коллегой, и мы с ней легко поняли, что и то, и другое хранилось в ФСБ в одной единице хранения, мы поняли просто по архивным особенностям. Они просто порциями выдавали.
Тут дело такое. Когда сотрудники ФСБ стали сами заинтересованы, я уж не знаю, морально или материально, в том, чтобы они участвовали в этих публикациях, тут все приобрело новые извращенные очертания. И те, кто с ними активно сотрудничают, получают довольно много материалов. Возникли какие-то странные симбиозы. Если человек работает в КГБ с 1974-77 года (а там такие продолжают работать в архивах), то нужно немножко постесняться так активно участвовать в публикациях. Надо, потупив взор, выдавать документы. Но они, видимо, смотрят иначе.
Иван Толстой: Здесь, в Праге, вы занимались, в частности, архивом Альфреда Бема. Это один из тех людей, судьба последних дней которых достоверно не известна, хотя кто-то из пражских архивистов считает, что он был и расстрелян, и похоронен здесь, на Ольшанском кладбище, и никуда не вывозился. Тем не менее, московские архивы ФСБ, в литературной своей части, может быть, и содержат какие-то ответы на эти вопросы.
Мариэтта Чудакова: Я думаю, внуки (один живет здесь, другой - в Америке) подадут запрос, и надеюсь, что постепенно получат ответ. Ответ в том только будет, где именно его расстреляли. К этому невозможно привыкнуть. Столько лет в своей жизни я читаю документы людей, и все равно невозможно привыкнуть к этому переживанию чужой жизни, особенно 20 века. Сплошь и рядом видно, что жизнь шла для того, чтобы кончиться от пули энкаведешника. Ужасно!
Иван Толстой: Почему ваш интерес лежит теперь в области эмигрантской фигуры Альфреда Бема?
Мариэтта Чудакова: Потому что я занимаюсь историей литературы советского времени всего, да и науки гуманитарной. А Бем был связан не просто с наукой, он был связан с литературой. Невозможно уяснить себе особенности литературного процесса подцензурного, не делая экскурсов в то, что происходило в другой ветви русской литературы.
Вообще, русская литература с середины 20-х годов разделилась на три ветви: печатную отечественную советского времени, рукописную отечественную (часть опускалась на дно рукописного русла) и зарубежную. Меня интересуют какие-то закономерности литературного процесса, которые были несомненно. Вот среди прочего и это интересно.
Я читала здесь пражские и варшавские газеты и журналы в библиотеке вашей, и архивные материалы. Страшно интересно. И всегда мучительно смотреть на то, как билась мысль эмиграции. Страшное дело, на мой взгляд, помимо воли человека лишать его родины. Кто сам выбирает – другое дело. Но помимо воли лишить родины никто не вправе. Так же как никто не вправе убивать другого человека. Многим это было очень тяжело. Даже большинству.
Иван Толстой: В ваших книгах, изданных при советской власти, вычитывали не только то, что было сказано, но и какие-то попытки выговорить, может быть, в несколько упрятанном виде, какие-то возражения советской эпохе, тому времени, которое было. То есть угадать что-то, что вы не могли прямоговорением заявить. В частности, книга о Михаиле Булакове, конечно, воспринималась как такое возражение эпохе, как не только книга полная фактов, но и полная морали, эмоций. А вот сейчас в том, что вы делаете, есть какая-то попытка возразить нашим дням, нашей эпохе?
Мариэтта Чудакова: Дело в том, что жизнеописание Булгакова вышло в 1988 году. Она была написана до этого. Смело могу сказать, что я была уверена, что наступит то время, когда можно будет ее издать в свободных условиях. В 1988 году я не столкнулась с цензурой, хотя цензура еще была. Но я с ней уже не столкнулась. Просто я эту планку отодвинула на свой страх и риск как можно дальше. Если говорить о советском времени, гораздо важнее, мучительнее и труднее было опубликовать мою работу 1976 года. В сущности, это книга, одиннадцать с половиной печатных листов, - обзор архива Булгакова, который был опубликован.
Вы говорите, что можно было прочитывать – я смело могу сказать, что поставила это целью своей научной жизни с аспирантского времени. Как мне это удалось – не мне судить. А сейчас я стремлюсь договорить, выговорить то, что не было возможно в цензурных условиях. Я это осознавала каждую минуту. Были вполне даже замечательные люди, которые говорили: да нет, я уже устроился, мне цензура практически не мешает, я сумел найти такой язык…. Я сумела найти такой язык, но я абсолютно не купалась в этом языке, я не могла дождаться того времени, когда более или менее внятно можно было бы заговорить, даже додумать свои мысли.
Потому что, например, в начале и середине 80-х, последние годы советского времени перед перестройкой, было страшное чувство, что я уже встречаю мыслительные препятствия внутри своей мысли, потому что я останавливалась перед додумыванием своих мыслей о литературе советского времени, я чувствовала, что если мысль моя пойдет дальше, то это уже не упакуешь в подцензурную форму. Дай бог упаковать то, что я до этой отметки делаю. И это абсолютно мучительное чувство.
А теперь самое главное, что я испытываю полную свободу мысли. Но оно обусловлено тем, что в Конституции моей страны есть статья 29-я часть 5-я - цензура запрещается. Она является моим допингом. Когда я устаю, я открываю это место и перечитываю. Тогда у меня новый прилив сил. Сейчас очень много пишется об истории литературы в советское время, но часто для людей не важно дойти до какой-то истины, а написать забавно, занятно, весело. Я стараюсь писать скучно. Надеюсь, что у меня это получается.
Иван Толстой: Как вы сейчас смотрите на такие литературные фигуры, как Аркадий Белинков, который построил всю свою систему на том, чтобы, с одной стороны, все сказать, а, с другой стороны, ничего как бы не произнеся опасного?
Мариэтта Чудакова: Он был замечательным человеком. Я написала предисловие, по возможности это выразила, написала большую статью к нашей отечественной публикации его книги об Олеше. Конечно, он первый додумался, едва ли не самый первый, в 1957-58 году, едва вернувшись, что надо не просто какие-то небольшие шаги делать навстречу оттепели, а надо попытаться что-то сделать принципиально новое. Вот в чем было его историческое значение.
О Тынянове книжка сыграла очень большую роль. Он стал писать литературоведческую книгу, но для литературоведения он стал пользоваться языком беллетристики. Поэтому он не открыл нового языка литературоведения, он открыл новый способ говорения на разные темы. Здесь были свои плюсы и минусы, если брать в широком смысле. Его роль была очень важной и яркой, но были свои минусы такого широкого действия.
Он, а за ним другие замечательные люди, вошли в этот эзопов язык и стали говорить слова, скажем, "николаевская Россия", имея в виду Николая Первого, а потом уже и заодно Николая Второго, а подразумевается наша советская власть. Таким образом все запуталось в такой клубок, что уже невозможно было разобраться.
Когда новое время началось, оно застало историю или околоисторические сочинения в таком плачевном состоянии, что тут уже сам шут не разберет, где здесь что автор хотел сказать, про кого он говорил, про советскую власть, про бедного Николая Второго или не такого уж виноватого, как описывалось это эзоповым языком, Николая Первого.
Мы с ним были последние полтора года хорошо знакомы, он все время говорил: "Возьмите мою книгу прочитайте, рукопись об Олеше". А я боюсь попасть под влияние, я сама тогда писала об Олеше. И потом сформулировала для себя, когда прочла, что Аркадий пишет о том, что не удалось, что погибло, а я пишу о том, что осталось. Но в этом замахе он был прав.
Нашему обществу очень нужен был такой несгибаемый скептик, такой желчный, такой злой человек. У нас слишком все это разлаписто, мягкотело. Такие люди нужны. Когда в большом количестве, наверное, нация тоже от этого страдает. Но нам это не грозит. Как он призывал ненавидеть, он уже прямые строки успел вставить, когда в Америке был, что надо сосредоточенно ненавидеть советскую власть, тоталитаризм. Да, ненависть - не хорошее, не христианское чувство, но вообще сегодня не хватает ненависти к советской власти и коммунистам. Чувство мое, которое я испытываю к ним, близко к ненависти. Я себя только обвиняю в том, что ненависть нехорошее чувство. Можно простить за себя, но я никогда не прощу за других – за погибших, за погубленных.