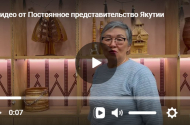Сергей Арутюнов: «Известным стоит быть лишь небу»

– Сергей Сергеевич, сколько вы получаете?
– Четвертак. То есть двадцать пять тысяч рублей в месяц. Кстати, неплохая зарплата для приходящего раз в неделю профессора.
– Это где-то половина школьной ставки?
– Больше половины. Школьная ставка стоит сорок тысяч, а моя зарплата складывается из неизменных восьми тысяч, доплаты за Высшие литературные курсы – у меня не только очники и заочники, но и курсисты, учащиеся платно два года, – и президентского гранта, распределяемого на всех штатных преподавателей.
– Вы преподаете 10 лет, срок приличный. С какими трудностями вы сталкивались за этот период?
– Трудностей по большому счету не было. Была (и пока есть) любимая работа, которую каждый год стараешься делать немного иначе, чем в «прошлом году», который есть все прошедшее разом. Схемы семинаров неизменны – чтение вслух, обсуждение, финальное слово, но даже в этом жестком каноне можно каждый раз отличаться от себя прежнего, быть слушаемым и воспринимаемым не как избирательный корректор, редактор или комментатор, но как человек во всем своем многообразии. Это… непросто, и каждый раз непросто по-разному. Нужны навыки, в том числе и актерского мастерства. За иные интеллектуально-эмоциональные этюды срываешь аплодисменты.
– Как вы считаете, долго ли ученику может быть интересен мастер?
– Недолго, если будет фигурой статичной, и всегда, если будет ощущаться внутреннее усилие мастера, направленное на преодоление дистанции между собой и семинаристом. Это самое главное – ощущение, что тебе идут навстречу, протягивают руки. Без него любое дело превращается в бухгалтерский учет.
– Сталкиваетесь ли вы с проблемой себялюбия как источником страстей?
- Да. Страшная вещь, и будто бы обоснованная природой «творца», но на самом деле ничем не оправданная: художник обязан быть открытым и беззащитным. Когда ощетинивается, перестает быть. Иногда обходится без трагедий, но порой себялюбие пожирает человека буквально на глазах, когда он вступает в острый клинч с действительностью, утверждая себя как точку отсчета, и, неизбежно чувствуя свою неполноценность, мстит действительности погрязанием в мелких и крупных пороках. Голос его или затихает совсем, что более честно, или становится лживым, масленым, по-кошачьи урчащим. Ужасное зрелище. Патетическое отношение к себе кажется мне одним из самых коротких путей к гибели: великие были просты.
– За 10 лет практики в Литературном институте были ли у вас случаи конфликтов с учениками? Какое решение данной проблемы вы находили?
– За десять лет насмотришься всякого. На вызовы пробовал отвечать, поскольку натыкался на нежданные фонтаны ненависти, и, как оказывалось, застарелой. Это потрясало: за что? Только с год назад один из мудрых сказал мне: ученику кажется, что он превосходит учителя, когда предает его, и единственное, что может сделать ученик, это предать. Что-то в этом есть, кроме горечи осознания. Какая-то жуткая сермяга. Еще мне советовали ни в коем случае не вступать в дискуссии подобного рода, молчать, как мертвому, и я внял этому совету. Выяснять в таких конфликтах нечего: претензии к мастеру многообразны, особенно если выискивать повод для них, копаться в белье, коллекционировать обиды, как трофеи. Мастер перед претензиями так же беззащитен, от нападок и оскорблений ничем и никем не заслонен. Ученику, талантливо предающему, никто из его однокашников не говорит ни слова, затаенно завидуя его лихости. И она в предательстве действительно есть – этим актом утверждается самость, рвется наконец связующая нить. Тот, кто получает пощечину, стоит и чувствует, как горит щека. Подавать в суд за формальную клевету и человеческую подлость – за гранью здравого смысла.
– Как вы считаете, всегда ли конфликт мастера и ученика – это эстетическое противостояние талантов или же скорее это ситуация Моцарта и Сальери? Если вам не трудно, приведите примеры.
– Эстетические конфликты часты, но, как правило, они не кончаются ни грязью, ни кровью. Гораздо хуже перевод эстетических разногласий в политическую или в уголовную плоскость.
Если человек полагает свои вирши шедеврами, а классику – липкой дрянью, от которой следует отмываться всеми способами, с таким пониманием литературы я вряд ли когда-нибудь соглашусь, и оно, хоть и умеренно, будет мешать работе над его дипломом. Что же до Моцарта и Сальери, два этих великих образа распределены между двумя фигурами литинститутского процесса в неравных долях. И мастер может быть Сальери, и семинарист, и никогда нельзя четко провести грань, где один превращается в другого. Несколько лет назад я хотел разыграть эту сцену в театре одного из моих тогдашних питомцев, беря на себя именно сальерическую ипостась, однако этого не случилось, мы ничего не успели сделать. Именно этот человек потом предал меня. Сальерическое для меня не просто зависть, но бунт разума против слепого выбора небес. Вспомните, с чего начинается эта маленькая трагедия – с утверждения всепроницающей, с небес до земли, неправды, то есть с неверия. На Руси изверившихся так и называли – извергами, и это как нельзя более верно – расстояние от утраты веры до упоенного садизма самое короткое из представимых. Чувствовал ли я зависть по отношению к чужим талантливым строкам? Нет, поскольку всем своим существом чувствовал в момент прочтения, что эти строки созданы в том числе и мною, моим переживанием их. Блаженство русской поэзии состоит в том, что авторство строк не важно – они воспринимаются слетевшими с небес. При чем тут авторство? И постановка вопроса предельно проста: либо мы все братья и лишены сальерического помышления о личных заслугах перед вечностью, либо мы псы, кусающие друг друга за ляжки.
– Что нужно начинающему автору для того, чтобы стать известным?
– Начинающему автору нужно стремиться не к известности, а к совершенствованию стиля. С тех пор как литературу у нас попытались превратить в рынок, ловкие дельцы стали ставить телегу впереди лошади, но коммерциализация талантов не дала им ничего, кроме пустых расходов и имен-однодневок. Кто сегодня помнит Ирину Денежкину? Сегодняшние отзывы на нее на Либрусеке весьма разочарованные, а открывали ее чуть ли не как символ новой литературы. А Илью Стогоффа? Прочих вундеркиндов всяческих резистансов и альтернатив существующей реальности? Что говорит вам имя Баяна Ширянова? Сегодня – ничего. А когда-то все трубы трубили только о нем. Зато многие впервые услышали о Борисе Рыжем, когда его не стало, но нужна ли человеку такая известность, лучше даже не дискутировать. Известным стоит быть лишь одной инстанции – небу. Если стать известным там, ничего другого просто не понадобится. Вы скажете – полнейший иррационализм, и будете правы. Именно полнейший, но никакой иной известности для меня не существует.
– За весь период преподавания можете назвать несколько имен семинаристов, которых можно считать состоявшимися авторами?
– Их больше дюжины: Амирам Григоров, Александр Орлов, Олег Будин, Тамара Сафарова, Дмитрий Иващенко, Марина Вахто, Наталья Мамлина, Василий Попов…
– Какие перспективы дает студенту окончание Литературного института?
– Сегодня – никаких. Система, созданная Горьким, разрушена. Если раньше выпускник Литинститута мог в зависимости от пробивных свойств и таланта жить некоей номенклатурной жизнью, сегодня он не может рассчитывать ни на что подобное. Литфонд, некогда могущественное учреждение, распилен частными лицами, журналы принадлежат также частникам, акционировавшим общенародную собственность в своих интересах, и т.п. – никто не придет, никто не поможет.
Работать можно и в никому не нужном ведомственном журнале редактором, на радио или ТВ уже реже при наличии связей. Наш диплом еще действует на воображение некоторых работодателей, застрявших в двадцатом столетии, но чем дальше, тем меньше. Обычно наши выпускники начинают жить заново, то есть или осваивают смежную профессию, или уходят в небытие.
– Вы автор 12 книг. Расскажите, пожалуйста, о вашей первой книге. Какую из своих книг вы считаете самой запоминающийся?
– Первую книжку я выпустил в 2002 году, почти зимой, на следующий год после смерти отца. Он очень хотел увидеть именно мою книжку, а не журнальные публикации, с которыми не расставался. Книжку тогда я мог издать только за свой счет и много раз с тех пор прибегал к такому способу. Скопились стихи за два года, сотня, как раз после выпуска из института, и я отдал рукопись в издательство «Русский двор», своим добрым знакомым Ольге Ворониной и ее мужу Сергею Добрину, заплатив им тысяч 25 на те деньги, а зарабатывал я достаточно, чтобы раз в год позволить себе такую трату. Через пару месяцев тираж привезли мне прямо домой, несколько типографских пачек. Книжка вышла мрачноватой, ее сдержанно и внимательно поприветствовала рецензией прозаик, автор «Литературной газеты» Анастасия Ермакова. Представление книжки я устроил в «Пирогах на Дмитровке». Тогда столичная интеллигенция любила ходить в заведения этой книжно-пищевой сети. Есть и выпивать среди книг, очевидно, казалось им оригинальной выдумкой. Вечер был мокрый, человек семь-восемь собравшихся, оповещенных мной о «событии» в Живом Журнале, сидели в подвале под кирпичными сводами, каждый взял себе по кружке пива, и я раздал книжку, подписав ее всем желающим. Помнится, меня попросили прочесть что-нибудь вслух, но я отказался: было неудобно перед соседними столиками.
– Кто среди поэтов служит для вас примером, на кого вы опираетесь в своем творчестве?
– Многие имена до сих пор для меня священны, но уже по-другому, чем для школяра. Пожалуй, Анненский, Блок, Ходасевич, Тарковский – те самые, тени которых порой ловлю в расставленные руки.
Они основали мучительный язык правды, на котором пытаюсь говорить. Собственного языка у меня нет, но это проблема моего будущего, а не русской словесности, которая, верю, отсчитает еще не один торжествующий век после и помимо меня.