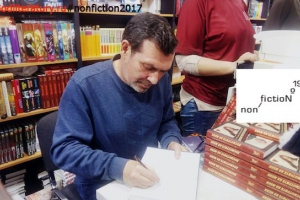рецензия
Мы не будем бить их палкой.
Стырим воздух и уйдем.
Синий-синий, жалкий-жалкий
нищий воздух сбережем.
Тимур Кибиров
Примо Леви. “Канувшие и спасенные”. Перевод с итальянского Елены Дмитриевой. — М.: НЛО, 2010.
Пять лет прошло после смерти Юрия Давыдовича Левитанского (1922 — 1996), и зияющее отсутствие его в нашей литературе как-то перестало замечаться. Слова прощания не в состоянии заменить слов понимания. Потому что слова прощания почти всегда чреваты безответственностью перед ушедшим. О Левитанском и при жизни писали не слишком-то много, а уж теперь...
Иосиф Бродский. Меньше единицы. Избранные эссе. Перевод с английского под редакцией В. Голышева. М., Издательство “Независимая газета”, 1999, 472 стр.
Нашей венценосной критике давно ни к чему углядывать трансцендентные отметины в стихах традиционных, но при таком отношении не станет ли напрасной даже самая добросовестная ее кропотливость?
Приговор «поэтов первого ряда» — один из самых жестоких и бессмысленных в нашей словесности: будто бы в каждом колене Богом избранных певцов есть только «рупора эпохи» (так и видится отверстая жестяная глотка), остальным же полагается безвестие. Так вот — не полагается: каждый поэт — трубка единого органа, нота и возносимая, и возлюбленная.
Олеся Николаева, «Августин. Апология человека». М: Патриаршее подворье храма-домового мц. Татианы при МГУ г. Москвы, 2017
Олесю Николаеву критика не то чтобы обходит молчанием, но ни одна пусть даже суматошная попытка прояснить нечто в ее поэтике не будет лишней.
Как бы мы ни лукавили, как бы ни строили из себя чистых любителей литературы, но, открывая любой сборник современной поэзии, мы хотим встретить не только тонкие лирические откровения и переживания, открыть новые таланты, но прежде всего услышать музыку времени.
Так устроила нас природа.