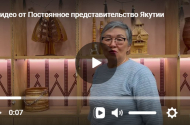Евгений Сидоров: «Элиту не выбирают и не назначают»

Узнав, что автор готовит к выходу продолжение «Записок», мы еще раз перелистали страницы книги и поговорили с писателем «о времени и о себе».
«...Мои листки шуршат, требуют выхода... Вот беда: то, что интересно читателям — правительственная и думская закулиса, — мне неинтересно. Я как пришел туда, так и ушел чужим. Так что можно назвать написанное «Записки чужого»...
— Читая ваши «Записки...», Евгений Юрьевич, я так и не смогла определить их жанр. Дневник? Вроде нет...
— Нет, записки — это и есть записки. Можете посмотреть в кабинете — не рукопись, а клочки бумаги в буквальном смысле слова. Я просматриваю эти осколки памяти и состояний, потом складываю в отдельную кучку, начинаю тасовать, как карточки. Техника у меня такая — как бог на душу положит... Но в целом получается что-то... да. Нечто вроде человека в истории.
— У вас удивительная биография. С советской точки зрения образцовая: мальчик из низов. Фантастически образованный при этом. Не знаю, возможно ли сейчас такое.
— Ну почему же из низов? Это для меня слишком лестно.
Очень интеллигентная семья, рано распавшаяся из-за смерти мамы. С 14 лет жил в Москве один. Поздний сирота.
Но был бешено активный общественник: юрфак, комсомол, целина, фестиваль молодежи и студентов и прочее.
Ведь только что прошел антисталинский ХХ съезд КПСС. Забавная деталь: для Международного московского форума молодежи в 1959 году выпустили плакат, изображающий единство трех рас. Так вот, белый парень — это я! Специально снимали для фотомонтажа. А в дальнейшем так случилось в жизни, что каждая моя следующая работа была лучше предыдущей.
— Ваши воспоминания о работе на обувной фабрике описаны просто и трогательно. Кстати, вы написали, что не знаете, кто такой Капранов. Специально узнала: большевик Виктор Павлович Капранов был рабочим-шорником, председателем ЦК профсоюза кожевников.
— Вот оно как... Затяжка носка на шпиц-аппарате произвела, выходит, на вас впечатление. Да все было. Начало смены на фабрике без пятнадцати семь, пошивочный цех номер три. Пятьдесят пятый год.
— А в постперестройку, пройдя журналистский и литературный путь, вы возглавили Минкульт. Чем памятен тот период?
— Денег нам тогда почти не давали, но зато ни президент, ни правительство не мешали, особо не вмешивались. Какието принципиальные вопросы удавалось решать так, как мне казалось правильным. Например, когда возник вопрос об обмене трофейными ценностями с немцами, мы ничего им не отдали, а поставили вопрос о компенсации. Они разрушили Смоленский кремль? Разрушили. Так пусть восстановят до камушка, а потом поговорим. Простите за невольную похвалу самому себе, но я действительно считаю своей заслугой возвращение музейному миру плененного трофейного искусства — коллекций Шлимана, Кенигса, бременских рисунков. Такая у нас была политика. Удовлетворенность от работы заключалась в том, что я в своей епархии был достаточно самостоятельным. За исключением Большого театра. Тут я промахнулся…
— Вы о вопросе его подчинения?
— Да. Я уехал отдыхать. А тут как раз «Ивана Сусанина» переименовали в «Жизнь за царя», на премьеру пришел Ельцин, ему подсунули на подпись указ о том, что Большой театр как театр «императорский и президентский» должен быть «выше всего». Ельцин поставил подпись. Так Большой вынули из Минкульта, и он попал под администрацию президента. Потом, лет через десять, его опять вернули. Такой весьма своеобразный стиль госруководства первым театром страны сохранялся долго. Топорно и унизительно поменяли Григоровича на Васильева, потом и с ним поступили как с Григоровичем — убрали внезапно, ни с кем не советуясь и даже с ним не поговорив. О дальнейшем вы знаете сами. Нынешнему гендиректору Владимиру Урину желаю твердости и успехов.
— Кстати, во всех ваших рассуждениях в книге слышен не чиновник, а гуманитарий.
— Так ведь я и не был кадровым чиновником. У меня вышло несколько критических книг, сотни статей, а перед тем как стать министром, был ректором Литинститута, где преподаю до сих пор. Конечно, это многое меняло.
«Пошлость неимоверная, но именно из пошлости и состоит человек, на три четверти, не меньше. Это прекрасно понимал Чехов...»
— Как вы оцениваете положение культуры сегодня?
— Сразу скажу: не имею дурной манеры публично критиковать преемников. А в остальном открытия не совершу. Самое опасное, что существует сейчас в России, — это пошлость. Не большая, не маленькая, а пошлость как мирочувствование. У нас, увы, пока победительное торжество середины. Творческая одаренность в сочетании с человеческой независимостью отодвинуты на обочину общественной жизни. Если посмотреть с точки зрения материальной, то при всех трудностях, санкциях и прочем среднестатистический обыватель сегодня живет неплохо. Но при этом довольно тускло живет! Эта тусклая обыденность припудрена всякими модами на то и на это, телешоу, безвкусной эстрадой. Я не против, можно веселиться, развлекаться, но все же глубже надо заглядывать — что там? Самое печальное, на мой взгляд, это отсутствие стратегии, культурной и социальной. Мы заняты тактикой.
И, в общем-то, не видим, куда бредем или скачем. Я вот думаю, что в России почти невозможно прямо бороться с коррупцией. Но она как следствие системной борьбы за модернизацию экономики может в свое время и снизиться. Когда-то, в начале дискуссии о выносе тела Ильича из Мавзолея, я написал: «Сам должен уйти». Так и будет.
И тут — примерно то же. Не столько с коррупцией надо бороться, сколько с человеческим разложением.
— Вы полагаете, это возможно?
— Конечно, возможно. Семья, школа... Если на это направлены осмысленные усилия государства и общества. Нельзя удовлетворяться маленькими радостями, маленькими идеями, какими-то очередными беспочвенными сюжетами.
Мечтать — хорошо, но надо что-то и делать. Осмысленно! Для этого — иметь четкое представление, что именно мы хотим построить.
А не как обычно, в нашей манере, сначала все сломать, потом быстро построить нечто, причем без всяких на то экономических и духовных оснований.
— Вы хотите сказать, что мы, сегодняшние, сиюминутны?
— Абсолютно! Знаете, как бы ни была утопична коммунистическая идея, она все же очень близка к раннему христианству. Она несет в себе почти религиозное (а не только экономическое и социальное) чувство человеческого братства. Кстати, Маркс у нас не прочитан как следует, изрядно опошлен практикой. Вот почему я думаю, что к социализму в каком-то виде у нас еще вернутся.
— «Отсутствие стратегии» — звучит как упрек властям.
— Вы знаете, я во Франции внимательно изучал их законы в области культуры. Мы с Францией похожи. Для них характерна та же несколько шовинистическая позиция: там не любят все чужое, в первую очередь американское, и очень любят руководить культурой по-имперски. Там франкофония, культ французского на экспорт и регионализм внутри. Их законы о культуре, творческих объединениях поддержаны ЮНЕСКО и могут быть легко адаптированы к нашим более сложным реалиям. Мы все это перевели. Затем под моей редакцией в 90-е вышли две программы — основы нашей культурной политики.
Иногда я их перечитываю, такое впечатление, что сегодня их совершенно не учитывают, все начиная с нуля.
— Простите, я не поняла — так эти законы были приняты?
— Нет, два главных закона, о творческих союзах и об освобождении их от налогов, приняты не были. Мне Чубайс говорил «по-дружески»: «Вам волю дай, вы водку гнать будете». Водку гнали другие. Льготы отдали газовикам, нефтяникам. А у ЮНЕСКО есть рекомендации для взаимоотношений культуры и государства в цивилизованных странах.
Почему они для нас негодны?
— Да, почему?
— После их принятия трудно воровать и вводить тайную или явную цензуру. Там есть условия, не позволяющие это делать. Этот кодекс обязывает государство выделить литературу и искусство в особый мир. А у нас по закону «Об общественных организациях» Союз писателей, к примеру, ничем не отличается по своим правам от Союза пчеловодов или Союза филателистов.
«Общее мнение: власть портит человека. Рискну заметить, что не всегда, потому что человек во власти сам кое-чего стоит, и никакая власть его не испортит, если он к тому не будет склонен и вовремя откажется от нее...»
— Вы говорите об этом и с грустью, и с иронией, которой наполнена и ваша книга. Почему-то кажется, что многие проблемы нашего мира происходят от потери чувства самоиронии.
— Абсолютно согласен. Без чувства юмора, без самоиронии невозможно никакое душевное строительство. Это обязательное условие. Посмотрите, как серьезны и насуплены практически все наши руководители. Мне иногда сказать хочется — да улыбнись ты, черт возьми, сделайся человечнее, раз торчишь в ящике с утра до ночи. Это на самом деле непременная часть политической культуры.
«Интеллигенция покидает поле битвы...»
— Вы в книге многое адресуете интеллигенции или говорите о ней. Она вообще у нас есть?
— В самой семантике слова присутствует «ум», мыслительная деятельность. Я не берусь дать точное определение интеллигенции, давайте попробуем его сформулировать через официальные коннотации.
Это не обязательно наличие высокого формального образования, но обязательная любовь к знанию, сопряжение своей судьбы с судьбой своего Отечества, народа, с его устремлением. Интеллигенция лишь тогда интеллигенция, когда она объединена в своих уставах, неписаных правилах морального поведения, где главное — совесть.
Она — вершина национального мыслящего айсберга, ведущая сила перемен.
— Она для власти оппозиция или опора?
— Может быть и этак, и так.
В России был период, когда интеллигенция абсолютно поддерживала власть — во время первого горбачевского Съезда народных депутатов.
Но часто интеллигенция с властью не совпадает, а творческая интеллигенция не совпадает почти всегда. Даже такой царедворец, как Мольер, который служил Людовику и кормился от него, все равно был внутренним оппозиционером. Идеи, которые его обуревали, никак не могли совпасть с государственными идеями Людовика. Но поймите главное — этот фермент необходим для нормальной жизни общества! Чтобы в воздухе бродила «идея пути». Почему я написал, что интеллигенция покидает поле битвы? Потому что сегодня она занялась элементарным выживанием.
Или лизоблюдством. Не все, конечно, есть и замечательные персонажи современной отечественной истории. Но их голос не слышен повсеместно. И еще — не надо все валить на власть и государство. Мы, обычные люди, поразительно утратили способность к самодеятельности и социальной отваге.
— Ждем, что решат сверху? Ну а что же тогда элита общества? Вернусь к вашей книге.Посиделки под разговоры о культуре. Споры. Где это?
— Наше государство носит откровенные черты корпоративной системы. Но элита — это не корпорация. Вот, скажем, писатели. Они разобщены совершенно. Даже в нашем писательском городке Переделкине раньше, помню, гуляли по двое-трое по тропинкам, что-то обсуждали, Чуковский с Катаевым, например. Сейчас не гуляют. Сидят по своим дачам. Элита возникает, когда четко выражена и структурирована идея общественного развития.
И именно от элиты хотелось бы услышать какие-то мысли по поводу этого развития. Но ничего подобного почти не слышно. А вообще-то элита появляется там, где есть сословное деление. В Великобритании, например, элита — это те, кто приходит в Вестминстер на бракосочетание кого-то из членов королевской семьи. У нас же к элите вполне серьезно относят какого-нибудь полуграмотного силовика или кого-то из раскрученной телетусовки.
— Раньше все было иначе?
— Раньше прислушивались к голосам, которые выражали время, его пульс и смысл. Был Сахаров. Был Солженицын. Дмитрий Лихачев. Да и Женя Евтушенко был рупором времени.
Сейчас причислить себя к элите невозможно, потому что произошла подмена понятий, и то, что иногда подается как элитарность, на самом деле расчетливая стадность, и не более того. У нас есть рынок, но нет буржуазии, зато мелкобуржуазности хоть отбавляй.
— Тогда уместны ли вообще разговоры о влиянии искусства на человека, способности его воспринимать? Или это можно как-то... возбуждать в себе?
— Нет-нет. В глубине живут и дышат силы, о которых мы даже не подозреваем. Но, к несчастью, для их выхода, как правило, необходим некий взрыв, чаще всего негодование. Что же касается влияния искусства, то вот простая мысль: настоящее искусство уничтожает былого человека.
— Да, вы написали — напрасно, мол, думают, что восприятие большого искусства иногда не удовольствие, а мука. Но про «уничтожение былого человека» попрошу вас объяснить…
— Вот ты живешь себе, а потом читаешь что-то, и оно потрясает тебя совершенно и — меняет тебя. И ты — совершенно другой человек! В тебе что-то произошло. Так может случиться после «Анны Карениной». Когти стиля… Они уже не отпускают. Но чтобы иметь их, должна быть львиная сила дара. Нужно быть Толстым.
«Никто из известных и знаменитых не стал писать лучше за последние кризисные годы. Иные стали писать много хуже. Иные вовсе замолчали…»
— В современной литературе очень много… вымороченного. А вы в книге как-то очень хорошо написали о простодушии…
— Знаете, у нас качественная литература, не хуже, чем в Европе. Другое дело, в искусстве великое не может быть сложным. Простодушие — это величина исключительно ясная, определенная степень открытости автора, когда у читателя ни на мгновение не возникает мысли, что сказанное — неправда. Его основа — именно простая душа, понимаете? Она обнажена, но это не стриптиз. Писатель не должен говорить о себе все, да и права такого у него нет. И кому ты нужен со своей подноготной? Но то, что говорится, должно быть простодушно: не вычурно, и идти из глубины души.
— А как случилось, кстати, что у нас все стали писателями?
— Это было всегда. Даже в крестьянском стародавнем мире слово всегда играло роль какого-то наслаждения, давало иллюзию свободы, откуда и бесконечные пословицы и поговорки в России и Малороссии. Это свойство немного придавленной души, желающей распрямиться. И, конечно, Россия — страна поэтов и графоманов. Я преподаю литературу почти сорок лет, столько поколений студентов прошло. Вот, кстати, замечу, что сейчас с преподаванием творится ужасная вещь! Зарплата преподавателя в творческом вузе зависит от числа студентов. Как это может быть? В консерватории или Литинституте на то и существует отбор и творческий конкурс, чтобы можно было кого-то выделить. И творческие вузы отдельной строкой и уставом выделять необходимо! Вы можете представить, что в балетное училище, скажем, будут принимать за деньги? А в литературе… Любая девочка с богатым папой после школы уже может что-то написать и издать. Раньше у нас на курс принимали сорок человек, сейчас сто, многие — на платные места. Это надо менять!
— Не потому ли у нас перестали читать дети?
— А я бы не сказал, что перестали. У меня трое внуков. Те дети, которым читают родители, потом начинают читать сами. Для каждого ребенка нужно составлять свою библиотеку. Все эти разговоры, что компьютер вмешался в нашу жизнь и бумажная книга исчезает, — ерунда.
Она не может исчезнуть.
Электронные носители умирают раньше, чем пергамент и бумага. Компьютер — удобное подспорье, но рукопись, книга останутся. Недавно умер замечательный человек, всемирно известный семиотик и постмодернист, прозаик Умберто Эко. Мы с ним однажды разговаривали. Он заметил — а почему нужно обязательно отрицать бумажный вариант, ведь можно сочетать! В культуре одна эпоха не смещает другую, не вычеркивает, а продолжает, изменяя.
Ничто из действительно великого не исчезает, оно цепляется и перетаскивается в другой век, в другое время. А пустое исчезает, как прошлогодние листья. И мы даже не знаем, что оно было.
— Почему-то новая литература не богата шедеврами.
— Во всем мире не стало шедевров. Куда-то делись большие люди и большие идеи. Говоря об идейности, я не имею в виду идеологию. Идея — дитя мысли, идеология — дитя политики.
— При всей сложности этого разговора у меня все равно остается ощущение, что вы хорошо замаскированный оптимист.
— Каким бы пессимистом я ни был, точно знаю, что жизнь — это яркая вспышка солнца посреди вечного ночного безмолвия. Но в рамках отпущенного срока ты должен быть и весел, и добр, и счастлив.
Любить женщин, вино, театр, музыку, поэзию, детей и животных. Жизнь — великий дар, даже если чувствуешь за спиной дыхание трагедии.
Когда живешь долго, замечаешь (да и философы писали об этом), что основа эволюции — повторение. Оно может идти не по спирали, а быть замкнутым циклом.
Я не очень верю, что человек создан для свободы и братства, а человечество — для прогресса: во Вторую мировую войну сколько людей погибло, а мы что, стали дальше от войны? И мне очень жаль мою любимую Родину, потому что она не заслужила таких испытаний, в каждом столетии... Но все равно, повторяю, я счастлив, что жил и живу в такой гениальной, безумной пьесе, ничего не ведая о ее развязке и ее финале.
— Этим чувством ваша книга и наполнена. Остается ждать продолжения. Когда?
— Пишу!
СПРАВКА
Евгений Юрьевич Сидоров родился в 1938 году, критик, эссеист, публицист. Министр культуры РФ (1992–1997), посол России в ЮНЕСКО (1998–2002). Первый секретарь Союза писателей Москвы. Автор книг и статей по проблемам отечественной культуры, литературы, кино и театра.
Подробнее: http://vm.ru/news/2016/06/27/evgenij-sidorov-elitu-ne-vibirayut-i-ne-naznachayut-324678.html