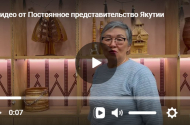«Не пряча глаз, не отводя лица…» Геннадий Красников к 50-летию со дня смерти Ярослава Смелякова

Такой вот феноменальный случай. Даже и по нынешним либерально-завиральным временам - идеологически чуждая веку сему демонстративная советскость поэзии Ярослава Смелякова, казалось бы, вопреки всякой логике ничуть не убавляет интереса к его судьбе и творчеству. К тому самому Смелякову, автору знаменитых стихов «Если я заболею…», «Любка», «Хорошая девочка Лида», «Я не знаю, много или мало...», «Кладбище паровозов», «Памятник» («Приснилось мне, что я чугунным стал…»), «Русский язык», «Пётр и Алексей», «Милые красавицы России», «Манон Леско», «Ксения Некрасова», «Ты себя под Лениным чистил…», «Три витязя», «Элегическое стихотворение» («Вам не случалось ли влюбляться…»), «Судья» («Упал на пашне у высотки…», «Земляки» («Когда встречаются этапы…»), «Голубой Дунай», «Надпись на “Истории России” Соловьёва»… К Смелякову, над гробом которого Константин Симонов произнёс: «Он был самым талантливым из всех нас», и который в присущей ему манере («с раздражённой добротою») к концу жизни мог мрачновато шутить: «Мне надоело возиться с молодыми: Чуева вести от сталинизма, а Евтушенко к коммунизму!..» Правда, уже в другой раз он не менее язвительно (будто о сегодняшних Познерах, Чубайсах и Немцовых) как бы закольцует предыдущий пассаж: «Почему я всю жизнь пишу за Советскую власть (читай: за Россию! – Г.К.), и у меня двухкомнатная квартира, а Евтушенко пишет против Советской власти (читай: против России! – Г.К.), и у него сто квадратных метров?» Дело, разумеется, не в банальных «квадратных метрах», а во всегдашнем подлом пренебрежении власти к тем, кто честно и бескорыстно служит стране (этой несправедливости Смелякову довелось хлебнуть полной мерой!). «Трижды зек Советского Союза» (И. Фоняков), на одном из судов он, принимая очередной неправый приговор, выразит всю трагическую глубину разрыва между ним и властью: «Я говорю как со дна океана…»
Если шекспировский Гамлет раздражённо предупреждал: «Назовите меня каким угодно инструментом, - вы хоть и можете меня терзать, но играть на мне не можете», то Ярослава Смелякова никакие большевистские розенкранцы и гильденстерны не принуждали воспевать революцию и её идеалы. Он по собственной воле и твёрдым убеждениям искренне выбрал свой путь, которому, несмотря на все испытания и изломы судьбы, не изменил до последнего часа. Что всегда приводило в недоумение (а то и раздражение!) тех, кто писал о Смелякове, признавая (или не признавая) в нём большого поэта. Так, Наум Коржавин свидетельствует: «Он входил во всевозможные обоймы признанных, ведущих и любимых “нашим народом” и “нашей молодёжью” поэтов и… в конце концов, его за это наградили Государственной премией…Вопреки всему этому — он ещё был подлинным поэтом. А если судить по лучшим его достижениям, то — не побоюсь этого сказать — и большим поэтом. Впрочем, последнее больше относится к его возможностям, душевным и профессиональным, которые он в силу многих причин реализовал далеко не полностью».
А вот дневники Д. Самойлова: «Смеляков — талант, убитый страхом и фальшью <…> Смеляков фальшив по убеждению» (23 мая 1973). Недолго думая, к «прибитым страхом» смелый Самойлов одним махом подвёрстывает также Светлова, Мартынова, Соболя, Межирова… Иногда кажется, уж лучше бы мы не знали этих самойловских саморазоблачительных дневников, столь беспощадно развенчивающих некогда казавшийся благородно-аристократическим гусарский образ поэта, ибо что-то пренебрежительно-плебейское открывается на самом деле в его высокомерном эстетском снобизме, когда он, к примеру, пишет втихаря в своих «записках из подполья»: «Как и в XIX веке, после падения пушкинского стиха, упавшая культура порождает некрасовскую школу, так и здесь являются “в чём мать родила” П. Васильев, Смеляков и Твардовский. Все трое — таланты “нутряные”…». Ещё брезгливее высказывается он о Шукшине, которого называет «злым, завистливым, хитрым, не обременённым культурой». Вспомнить бы любителям менторского тона, как радовался Пушкин явившимся «в чём мать родила» талантам Кольцова, Гоголя, Ершова… И дай-то Бог нынешним брезгливцам дотянуться хотя бы на вершок до «упавшей культуры» некрасовской школы с его «нутряными» Есениными, Твардовскими, Васильевыми, Корниловыми, Смеляковыми!..
Судьба определяет биографию, но не характер человека. Характер выстраивает биография. И в отличие, скажем, от Самойлова, Смеляков как раз и не был человеком с двойным дном. «Дипломатичность и осмотрительная деликатность не были ему свойственны» (Е. Винокуров). Всем известна его грубоватая, порою шокирующая прямолинейность и резкость. И не заначенная по дневниковым и эпистолярным закуткам человеческая и политическая прямота. Неслучайно на вопрос анкеты: «Твоя отличительная черта?», он ответит: «Прямота», а любимым изречением назовёт – «У бездны на краю…», что свидетельствует о мужестве поэта. Да и о Светлове, своём друге, будто о себе самом, он скажет: «Нет! — в нём не было ни одной фальшивой ноты, ни одной пылинки наигранности». В его заметках есть запись: «Поэт неискренний — не поэт». Честный и верный друг Марк Соболь скажет о Смелякове: «”Кайло и лопата” в его стихах подлинны. Валуны мозолей от этого, как говорят в армии, шанцевого инструмента были на его ладонях». Другой непредвзятый современник и свидетель эпохи Константин Ваншенкин, подтвердит: «Репутация Смелякова как поэта и как человека исключительно выверенного вкуса была чрезвычайно высока».
В тени и на свету (а по рассказам очевидцев, и в сталинских лагерях, и в финском плену во время войны!) оставался он самим собой - описывал ли романтику своего комсомольского поколения; недвусмысленно ли выбирал блатной и дешёвый мотивчик одесской «Мурки» для выражения чувств к «Любке Фейгельман»; защищал ли доведённого до самоубийства Маяковского, которого «доконали» «эти лили и эти оси»; вступал ли открыто в непримиримый спор с таким же лагерником, как он сам, Солженицыным; являл ли великое русское всепрощение к развенчанному Сталину, рассказывая, как чья-то «женская рука с томящей нежностью и силой два безымянные цветка к его надгробью положила»; был ли против антикоммунистических венгерских и чехословацких событий; заявлял ли: «Я русский по виду и сути»; обращался ли с нежностью к Антокольскому: «Здравствуй, Павел Григорьич, древнерусский еврей» или беспокоил «посланием» некоего вневременного Павловского, своего «крёстного из НКВД», который «крестом решётки» «на Лубянке окрестил» его; или когда описывал, как «В девятнадцатом стала жидовка Комиссаркой гражданской войны»; или когда оплакивал убийство Эрнесто Че Гевара, министра «с апостольским лицом и бородой пирата»…
И если о Л. Мартынове, также как и об А. Ахматовой, М. Цветаевой, С. Есенине, О. Мандельштаме, Б. Пастернаке, Б. Корнилове, П. Васильеве, П. Антокольском, Н. Заболоцком, В. Шаламове, С. Маркове, А. Тарковском… правильнее будет говорить как о русских поэтах советского периода, то Ярослава Смелякова без излишних стыдливых оговорок следует прямо называть русским советским поэтом. Что нисколько не умаляет достоинств его замечательной поэзии. Он значительнее, ярче, самобытней, сложнее и честнее многих своих добровольных судей.
Нетрудно заметить, что все перечисленные выше поэты, прожили в литературе ХХ века как бы в двух параллельных, почти не пересекающихся Россиях – в советской и в той, которую потеряли в 1917 году… Истинную Россию многие из них неизменно видели в б о л ь ш о м историческом времени (особенно Л. Мартынов), чего почти не было в творчестве Смелякова. Тема собственно истории появится у него лишь в самые поздние годы. Отсутствие же историчности накладывало своеобразный отпечаток на его поэзию, которая (в отличие от стихов его друзей, двоих из описанных им «трёх витязей», - Корнилова и Васильева) как бы лишена корней, истоков. В чём, на мой взгляд, причина того, что Ярослав Смеляков поэт без пророческого дара, - для русской поэзии вообще и для таланта такого масштаба случай, пожалуй, исключительный.