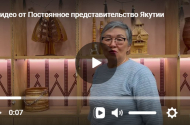Олег Павлов: «Советская литература возвращается?»

– В чем смысл творческого вуза для людей, пришедших сразу после школы?
– Ни в чем. Что делать человеку, который и так, и так в литературу войдет? Творческий вуз очень специфический, потому что если вы идете в театральный вуз — там совершенно другая система преподавания, хотя самая близкая для меня по одержимости. <...> Во ВГИК – что, приходят гениальные режиссеры? Там тоже есть масса технических вопросов, которые люди должны понять — это раз. Люди должны понять свою органику — это два. Это всё расчет именно на молодежь, конечно. То есть на то, что приходят молодые люди, когда нужно начинать с нуля. Но если нет одержимости, то, собственно говоря, никакой институт не поможет. Вообще ничего не поможет. Это происходит с людьми, одержимыми в любой сфере. Это собственное внутреннее решение. Художник — это и есть одержимый своей идеей человек, — идеей нравственной, идеей художественной. Так я думаю.
– Если автор работает над несколькими вещами одновременно, то это говорит о неспособности сосредоточиться на чем-то одном или же наоборот — показывает способность распределять работу? Или у каждого свой подход, и есть примеры сильных вещей – как с той, так и с другой стороны?
– Да работайте, как хотите, лишь бы работали. Во-первых, одновременно нельзя. Стилистически неправильно. Разновременно. Со мной такое происходило, если прекращалась эта связь с вещью, я мог уйти в другую работу, потом к ней вернуться. Но надо всё время держать в памяти такое количество ощущений, чувств, что лучше их не оставлять, конечно. Мне кажется, это не неспособность распределять работу, это неспособность все-таки подчинить себя одной цели. Цель одна, поэтому она важна. Или надо решать, что важнее, но так нельзя. Зачем так делать? Если да, провал, не получилось — такое ощущение полное, что можно за другое что-то взяться, потом через время понять что-то. Но в общем, надо отдавать себя одной цели.
– Хотя точного сведения нет, но принято считать, что Хармс погиб в больнице в ледяном безжизненном Ленинграде 1942 года. Его сценки, стихи во многом вывернутые, бессвязные, — бессознательный абсурд или специальный?
– Так и было, в сумасшедшем доме он погиб. Его взяли по немецкой фамилии, и он любил стоять голым у окна. Арестовали их всех, потому что был донос на всех – Олейников, Введенский, Заболоцкий, Хармс. Но Хармс попал в психушку, то есть советские органы его так поняли.
Но вообще Хармс — человек, конечно, странный. Хармс — это, в общем-то, Кафка. И мощнее, чем Кафка. Кафку сделала Европа флагом модернизма своего. Но Хармс, не желая быть странным, был странным. И он дал бы больше возможностей литературе, конечно, если бы это каким-то образом было продолжено. При этом он при всем своем безумии был чрезвычайно социален, активен. Человек, который каждый день считал, что завтра ему будет нечего есть. Это потрясающе — и влюблялся каждый день в новую женщину. Это не Кафка. У Кафки вся трагедия в том, что он сидел у дядюшки переписчиком. Я считаю, что такие писатели, как Кафка, Хармс, были потеряны совершенно несправедливо. И хотя Кафку почему-то в советской России возродили в шестидесятых, напечатав тот же «Процесс», то Хармса-то не возрождали.
– Кого выделяете из современных отечественных и зарубежных авторов?
– Зачем писателей выделять, надо выделять произведения писателей. Допустим, есть вещи, которые я выделяю: например, «Замороженное время» Тарковского, «Остров» Голованова, «Приложение к фотоальбому» Отрошенко и много чего-то еще, просто я могу забывать. То, что мне точно не нравилось — это то, что всем нравилось.