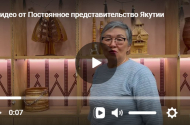Пиши и исполнится… Вспоминая Сергея Есина

Среди фигур прошлого Сергея Есина особенно занимал небезызвестный критик России маркиз де Кюстин, занимал настолько, что однажды Есин вызвал его дух из бездны, зазвал в свой кабинет и, облачившись в критический раж, прошёлся язвой иронии по современной истории державы в своём романе «Маркиз». Кого только не тронул серебряным клювом наш московский ястреб! Досталось всем – от писателей до Кремля. Ему были близки критический настрой и сатирическая злость. И его роман – сегодня об этом уже можно сказать – встал в один ряд с эпопеей Щедрина «История одного города»… Больше того, на обложке книги Есин предстал перед читателем в парике и в камзоле французского аристократа, с кружевами из узкого рукава. Облик дегустатора нравов ему был удивительно к лицу. Его роман – чертог Света и Тьмы. В нём, замечу, есть стереометрия плана, а ещё со времён Данте умение создать чертёж незримого – высший знак качества писателя.
Между тем в своём исполинском дневнике, самой длинной книге русской литературы, Есин старался держать тон летописца и гасил раздражительный соус критической кухни. Удивительно! Но в хронике нашей жизни он старался быть предельно объективным хронистом и, затронув сотни живых персон, не задевать личности. И это ему удалось. Ни одной дуэли… Читать его снайперские реплики (даже о себе), ей-ей одно удовольствие. Я как-то заметил Сергею, что всех нас будут судить по его «Дневнику», Есин довольно смеялся.
Он умел необыкновенно любить, увлекался людьми, а то, как он убаюкивал на руках, как младенца, смертельно больную жену Валю, которая умирала от тяжёлой болезни долгие годы – подвиг. И сумел её уход превратить в книгу «Валентина»… Это умение превращать любую судьбу и предмет в историю сродни дарованию Андерсена, у которого оживают под пером штопальная игла, стручок гороха, старое кресло или роза на могиле Гомера. Его две последние книги посвящены близким вещам, вот жизнь любимых вещиц на рабочем столе писателя, вот маленький шедевр «Не пишется…», где он с горькой тоской описывает хотя бы свои руки в синих жилах, следит за тем, как стекленеет на ветру бытия судьба старого человека, который теряет – каплю за каплей – дар желаний и тягу огня.
Никто из нас не написал такой книги.
Эту капель он превратил в античную клепсидру литературы.
Есин принадлежал к редчайшему типу литератора, который пьёт вместо кофе буквы и превращает строчки в марево слов… какое-то волшебство писательской мании, сад, затканный золотой кисеёй шелкопряда.
Именно марево – так он однажды сам определил существо собственной творческой манеры, вот продолжу цитатой: «Ключевое здесь для меня слово «марево», возможно, это мой метод – что-то создать, освещая предмет с разных сторон, а явление сложить из деталей».
Но самый редкий дар Есина – чувство меры.
Все мы знаем, как раздражительна творческая среда, как ревнивы и нетерпимы мы друг к другу. Увы, Россия живёт только духом раскола и взаимной вражды, только онтологией вражды мы можем охватить столь ёмкое земное пространство, так вот Сергей Есин всегда занимал центр равновесия, он равно держал в чаше правой руки, например, патриота и почвенника, а в левой – либерала и атеиста. Он ценил лишь дарование. Свой Литературный институт в пору ректорства он превратил в небосвод ярких имён, а кафедру – в коллекцию первых из равных. Таким даром – сродни гению Дягилева – он сумел расправить все шесть крыльев священного серафима литературы.
«Пиши и исполнится. Уверен», надписал он мне свою книгу.
При этом был как никто ревнив к чужому успеху, но – внимание – и раним к чужой неудаче, которой был всегда искренне огорчён. Качество современной прозы было главной заботой его бессонной души! Вот оно нужное слово: бессонницей сердца он опекал нашу судьбу.
А сколько он читал! Уму непостижимо! Есин читал в такси, читал в самолёте, читал в электричке. В его рюкзачке за спиной было три обязательные вещи: лекарства, книги и ноутбук.
…В ноябре мы вдвоём ездили в Марбург, каждое утро он стучал в номер и увлекал на прогулку. Причём всегда вверх, в гору, по узким средневековым улицам к замку! Только там он вдруг успокаивался, дышал панорамой. А ведь его сердце уже висело на алой кровавой нитке, которая оборвалась в декабре.
Там между нами мелькнула молния… «Послушай, он жив?» – вдруг спросил Сергей и назвал имя легендарного плейбоя времён моей провинциальной юности. Я споткнулся. История любви поэта к оперной диве, которую наш город носил на руках, была трагическим лакомством далёкого года. Она умирала совсем молодой. В самый разгар своей европейской славы. Особую пикантность роману поэта и певицы придавал некий московский соперник, пижон, который прилетал из столицы на вечерний спектакль в Оперу и, вручив меццо-сопрано букет роскошных роз, улетал ночью обратно… Так это был ты? Тот московский пижон? Есин отвёл глаза… ладно, проехали.
Больше мы этой темы в Марбурге не коснулись ни разу.
Он умер в дороге.
В номере минской гостиницы. Ночью. А перед сном Есин, как обычно, читал… Что именно?
Статью о Пушкинской речи Достоевского.
И последнее.
Душа бессонного Есина была сродни надзору ястреба, который парит высоко-высоко в мареве летнего неба, облетая своё подлунное царство… с земли, тот ястреб похож на маленький крестик, именно так – зорким распятием – он парил в поднебесье русской литературы… что ж, будем привыкать жить без него… первые сорок дней уже прошли.