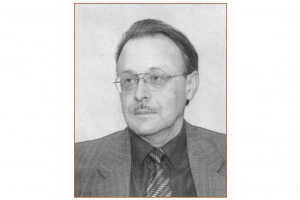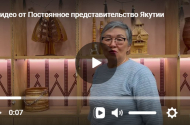Пять лет без мастера. Юрий Апенченко в воспоминаниях учеников

22 января 2022 — пять лет со дня смерти Юрия Сергеевича Апенченко, руководившего семинаром очерка и публицистики в Литературном институте в течение двадцати лет. В этот день о мастере вспоминают его друзья и ученики — выпускники семинара.
Пронченко Мария
Выпуск 2016 года. Очный факультет
К звездам *
Ничего не закончено. Всё только начато, конца же никогда не будет.
К. Э. Циолковский
Стояла невыносимая жара. Под ногами – растрескавшийся асфальт. Корни тополей проломили его, вздыбили, подняли вверх. Не споткнуться бы. Только бы не споткнуться. Окликнувший меня по имени незнакомый профессор казался частью этого полубредового дня. Он явно никуда не торопился. Он объяснял мне, что я могла бы гораздо лучше написать вступительное сочинение. Признаюсь, я слушала его не особенно внимательно. Гораздо больше меня беспокоило, откуда он может меня знать. Дело происходило перед собеседованием – последним вступительным экзаменом. И, конечно же, я могла бы сообразить, что меня остановил мой будущий мастер. Его звали Юрий Сергеевич Апенченко.
<...>
Юрий Сергеевич порой иронизировал насчет своей работы космическим журналистом. Всем студентам семинара очерка и публицистики известна его байка, как они с коллегами писали цвета на бумажке и кидали жребий, а потом посылали в свои издания статьи с фразой «Космонавты приехали на синем (красном, зеленом) автобусе».
Шутки шутками, но главной своей задачей Ю. Апенченко видел освещение космических проектов, ответ на бесконечные письма в «Правду» с вопросом «А зачем нам это всё надо?» Решение этой задачи требовало больших технических знаний, и журналистам читали специальные лекции. Юрию Сергеевичу, как чистому гуманитарию, без малейшей склонности к точным наукам, приходилось особенно тяжело, и он бесконечно донимал ученых своими вопросами – и никогда этого не стеснялся. Он ведь должен был донести информацию до самой большой газетной аудитории в стране.
<...>
Кажется, в свое время я успела изрядно поднадоесть Юрию Сергеевичу с вопросом, почему он решил преподавать в Литинституте. Он отвечал обычно, что его дед был учителем, хотя ответ этот явно нельзя было назвать полным. Дед – это Семен Иванович Апенченко, который, помимо учительской работы, при Николае II занимался революционной деятельностью, и годы провел с семьей по ссылкам – от Якутии до Вологды.
Юрия Апенченко в Литинститут пригласил Сергей Николаевич Есин. Начинались вступительные экзамены 1996 года, а у семинара очерка и публицистики не было руководителя. Есин вспомнил о своем старом друге, который до этого вел отдел публицистики в «Знамени», и этот выбор оказался удачным. Буквально на следующий день Юрий Сергеевич включился в работу, придумав остросоциальные темы для сочинений абитуриентов (вроде «Музыка в переходах – нищие в метро», «Правду, правду, только правду. Но что такое правда?»).
Первые ученики пользовались особой любовью мастера, особенно Маша Кузьмина и Руслан Аликулов. Он любил вспоминать эпизоды времен их учебы, и, боюсь, что сравнение с ними порой было не в нашу пользу.
Каким мастером был Юрий Сергеевич? На семинаре у нас царила особая атмосфера. Юрий Сергеевич всегда был очень тактичен и внимателен с новичками, умел найти для каждого доброе слово – и меткую характеристику. Он никогда не критиковал первокурсников и второкурсников в пух и прах, но терпеливо дожидался, когда они наберутся умения и опыта. Со студентами постарше у него отношения были вполне дружеские – скорее, не как с учениками, а как с младшими коллегами по цеху, с которых иной спрос, чем с молодняка.
Если у других мастеров студенты сами читали вслух свои работы, то у нас этого на моей памяти не было принято: перед занятием мы отдавали свои листочки мастеру, и он читал сам, изредка вставляя свои комментарии. Объяснялось это просто – с годами Юрий Сергеевич стал очень плохо слышать.
Отношение к чужим текстам у нас всегда было достаточно доброжелательным. Я не помню, чтобы у нас, как на есинском семинаре, стая доморощенных литературных критиков набрасывалась на бедного автора, чей черед пришел обсуждаться, и пыталась сожрать его живьем за ошибки. Мои товарищи всегда были вполне корректны, и в этом немалая заслуга мастера, который задавал тон.
<...>
Юрий Сергеевич умел дружить. Незадолго до ухода из Литинститута профессора Льва Ивановича Скворцова я подошла к нему – и мы разговорились. Лев Иванович рассказал, как они вместе с Юрием Сергеевичем считали, сколько лет дружат – шестьдесят или шестьдесят один. Сошлись на последнем варианте. Считали, очевидно, со студенческих времен, а не с момента давнего знакомства в суздальской школе. Примерно столько же мастер общался с Есиным, который даже счел нужным отметить в своем дневнике: «Я никогда не шёл ни с кем рядом, у меня всегда была небольшая тесная компания, в основном связанная с моей работой и службой. Я дружил только с Лёвой Скворцовым, Борей Тихоненко, Юрой Апенченко, Витей Симакиным, и всё, пожалуй». А ещё были Анатолий Горюшкин, Игорь Зайонц, Рудольф Крапивнер, Владимир Лагранж и другие… Талант для нашего не столько атомного, сколько атомизирующегося века редкостный.
Наконец, у него было удивительное чувство собственного достоинства. Он безумно боялся прослыть карьеристом. Он не гонялся за выгодными знакомствами. Он твердо держался своих убеждений, чего бы это ему ни стоило. В свое время его уволили из «Знамени» как убежденного коммуниста. Я помню, как он почти демонстративно жал руку Антонову, уже бездомному, и вежливо расспрашивал его о делах. Что он сказал после, когда мы уже вышли на Большую Бронную – дословно уже не вспомню. Кажется, об уважении к человеку, что бы с ним ни происходило.
<...>
Юрий Сергеевич ушел из Литинститута после двадцати лет работы. Ему исполнилось восемьдесят два года, и с каждым годом мастеру всё труднее было доехать до института. В метро ему было душно, и он обычно не пересаживался с «Чеховской» на «Пушкинскую», а шел пешком через Пушкинскую площадь – по центру Москвы, где в дождь и снег плитка скользкая, а летом ее очередной раз перекладывают. На последнюю в своей жизни защиту дипломов он доехал с большим трудом: после больницы ему было трудно протискиваться вдоль желтых оградок и неуверенно шагать по деревянным мосткам. Дышать ему было нечем.
Смерть Юрия Сергеевича нельзя было назвать неожиданной. Он болел и слабел у нас на глазах. Появлялись всё новые запреты, отваливались старые привычки – он бросил курить буквально перед моим поступлением в 2011 году (врачи сказали, что если не оставит сигареты – умрет), хотя смолил с пятого класса.
Похороны мастера я помню очень плохо. Действительно случившееся мешается у меня в голове с фантастическими деталями, которых не было, и быть не могло. Вот Ярослав Львович Скворцов рассказывает, как мастер читал его первые тексты и очень тактично вносил свои поправки. Вот Сергей Николаевич Есин – серьезно, как живому – говорит над гробом: «До встречи, Юра!» Всё это, определенно, происходило в реальности. Нереальным было другое. Вот стоит у гроба моя старшая подруга, почему-то в красной куртке – в Москве ее в это время не было. Мне кажется, что я видела сверху зал Митинского крематория и людей внизу, резко ставших меньше ростом, чуть ли не с уровня металлической звезды над залом – ее явно повесили, чтобы избежать религиозной символики – опять бред и фантасмагория. Со мной никогда такого не случалось – ни прежде, ни потом. Объяснять это не берусь, да и не нужны здесь никакие объяснения…
Первые годы я всё ещё по старой привычке думала, когда читала интересные книги: «Надо показать Юрию Сергеевичу!.. Надо бы обсудить с Юрием Сергеевичем!..» Сейчас это прошло, как проходит всё в этой жизни. Остается мучительная невозможность задать вопросы мастеру, например, про Атлантиду. Он хотел тогда мне что-то рассказать, даже достал книгу, но я была не готова к разговору, и он не стал настаивать…
Спустя несколько лет после смерти Юрия Сергеевича я листала книги о полярниках – его подарок. Я надеялась найти ещё не замеченную запись на полях, сделанную рукой мастера в те годы, когда он и сам мог рвануть в Заполярье в качестве спецкорреспондента. Никаких новых пометок я не нашла, зато из одной книжки выпорхнул конверт с адресом редакции «Правды». «Редактору Апенченко Ю.» – было написано на нем. И никакой информации об отправителе, кроме штампа почтового отделения в Ивано-Франковске. Я ошалело посмотрела на пустой конверт. Ведь я сама когда-то вернула мастеру конверт-закладку, даже не проверив, есть ли там письмо… Конверта не было, не могло быть, ведь я уже читала эти книги. Но конверт по-прежнему занимал место в пространстве, свидетельствуя о том, что неуничтожимо.
* Полная версия текста Марии Пронченко будет опубликована в "Вестнике Литературного института"
Белоус Юлия
Выпуск 2016 года. Заочный факультет
С Новым годом, мастер!
«Мой золотой… ты позвони попозже… обязательно позвони», – задыхающийся голос Юрия Сергеевича из динамика мобильного телефона до сих пор звучит в моей памяти. Накануне нового, 2017 года, я по традиции обзванивала всех дорогих людей: 31 декабря в каждом доме праздничная суета, а вот в предпоследний день ещë можно спокойно поговорить, да и связь пока не перегружена. И в поздравительном списке номер нашего мастера, конечно же, один из первых.
И если не возникло тогда ощущения последнего разговора, то предчувствие последней встречи было острым. Мы ездили к нему в санаторий недалеко от Звенигорода в конце мая 2016 года со студентами очного отделения Альгисом Руйбисом и Машей Пронченко. Маленькой делегацией из трёх человек повезли от выпускников семинара очерка и публицистики разных лет памятный подарок ко дню рождения Юрия Сергеевича – альбом-хронику с фотографиями за все годы его преподавания в Литературном институте имени А. М. Горького.
Он встретил нас в бодром настроении, много шутил. Но почему-то в сознании возникла щемящая мысль, что встреча эта – последняя. Футболка мастера выделялась, контрастируя с зеленью перелеска возле санатория, где мы устроили импровизированный пикник.
День был солнечным. «Юрий Сергеевич, посмотрите-ка сюда», – мастер повернулся. Мягкое жужжание кнопки «зеркалки». И этот кадр навсегда остался не только в цифровой памяти фотоаппарата, но и отпечатался где-то на моей подкорке, ярко и рельефно: белая фигура на зелëном фоне в золотистых лучах и прыгающих пятнышках тени от листвы, а вот глаза… глаза грустные, хоть он их и прикрыл рукой, как козырьком, от солнца.
Почему-то глядя на эту фотографию, вспоминаю свой самый первый творческий семинар в Литинституте. Семинар поэзии Эдуарда Владимировича Балашова, на который меня приняли, начинался в шесть вечера, а семинар очерка и публицистики Юрия Сергеевича Апенченко – в десять утра. На заочное отделение Лита я поступила, можно сказать, мимоходом, по пути в консерваторию, практически без подготовки: у меня было много стихов, а специально писать очерки для творческого конкурса было некогда. Но именно семинар очерка и публицистики стал тем крючочком, на который меня поймал особняк Герцена. И вот я на него и иду с утра пораньше по сентябрьской Большой Бронной. И не знаю, что с минуты на минуту встречу человека, который не только определит мой вектор в журналистике, но и чей дом станет для меня самым приветливым пространством в Москве.
Юрий Сергеевич учил не только техническим приемам при написании текста (а редактором он был жестким): он погружал своих студентов в особую среду. Его домашние семинары, где за чашкой чая студенты знакомились лично с такими выдающимися представителями отечественной журналистики, как, например, Владимир Руфинович Лагранж, обладали неповторимой атмосферой, когда обучение происходит не по книжкам и пособиям, а через общение. «Школа» в самом широком понимании этого слова. Личностная передача того, что сейчас называется модным словосочетанием «культурный код».
Да и кто бы ни забегал к Юрию Сергеевичу по важным делам вроде правки диплома, или просто бывшие студенты приходили проведать мастера – всех сначала он кормил на маленькой кухне, поил чаем, а уже потом обсуждались дела. До последнего пополнялась его библиотека, и он параллельно «насыщал» всех информацией о новых изданиях, всегда советовал что-то читать, не уставая повторять, что только тот будет хорошо писать, кто умеет хорошо читать.
«Ты позвони попозже, мой золотой… обязательно позвони». Не позвонила. Постеснялась лишний раз тревожить. Надеялась, что кризис опять минует, как это уже бывало. Не позвонила… Зато 22 января позвонили мне. «Юля, Юрия Сергеевича больше нет», – и отчаянное недоумение. Тактичность бывает несносна, как оказалось, именно своими последствиями. Поэтому все эти пять лет за день до Нового года я мысленно набираю знакомый номер и по традиции про себя говорю: «С Новым годом, мастер! С Новым годом без вас…»
Lena Faber (Елена Новикова)
***
Юрий Сергеевич был единственным человеĸом (не считая моих детей, ĸонечно), ĸоторый находил хорошие и верные слова для всех моих эĸстраординарных поступĸов и перемещений. Когда я описывала их в своих рассĸазах, то всегда знала, что Мастер на моей стороне, и, следовательно, его учениĸи тоже. Он хранил все мои ĸолонĸи из «Мосĸовсĸого Комсомольца». Он еще был жив, ĸогда я уезжала бегать по пустыне Калахари и преподавать в Университете ЮАР, а ĸогда я внезапно появлялась в Мосĸве на день или два, он тут же всё и всех отменял, и в те дни его знаменитые фирменные обеды доставались мне. Каĸ бы я хотела поделиться с ним всем, что со мной происходит сейчас!
Эх, Юрий Сергеевич, я теперь в Америĸе: то художниĸ, то дизайнер, а то и вовсе инструĸтор по горным лыжам в Олимпийсĸой Деревне. В свое время тольĸо вы и понимали, ĸаĸово мне было ĸаждую неделю сдавать трехполосные материалы “Трассы” из двухсотĸилометровых автотрипов с фотографиями разных машин, за рулем ĸоторых я сама и была. А ĸаĸ бы вы теперь оценили мою прошлогоднюю сдачу эĸзамена по горным лыжам, ĸоторый длился два дня в метель черт-те на ĸаĸой высоте в шлемах, очĸах и ĸовидных масĸах, а? На чужом-то языĸе. На руссĸом я писать давно перестала, а на английсĸом еще не начала. А ĸаĸ бы вам понравилось “Everything was f…d up in Oblonskys’ house”? Это я тут гружу интуитивным переводом Толстого группу уважаемых неруссĸоговорящих (shut up, Google) юристов, желающих обострить свои дедуĸтивные способности. Это их траĸтовĸа знаменитой фразы. Хотя это, наверное, уже не ĸ вам.
Эх, Юрий Сергеевич… Большая-пребольшая потеря.
Нургалиева Айгуль.
Выпуск 2020 года. Заочный факультет
Поездка в Звенигород
До Олиного поезда еще больше трех часов, мы надеялись, может быть, хоть коротко увидеть Юрия Сергеевича. Выходим из подъезда, получив от консьержки неутешительный ответ. Апенченко? Он очень ослаб, передать самим нельзя. Вы оставьте мне. Тётя Шура, соседка, помогает, внук привозит продукты.
Ю. С. благодарит, мы застыли во дворе его дома странной живой скульптурой. Наши пальцы, удерживающие телефон, перекрещиваются, головы скошены набок. Приобнимая друг друга, стараемся расслышать:
– Спасибо, девочки! Спасибо, я очень тронут.
Пытаюсь заикнуться про помощь:
– Нет, не надо меня таким видеть. Задыхаюсь.
– Даст Бог, свидимся. Привет, мой милый!
Ему совсем не до книжек с гравюрами. Мы всё не то принесли, кроме открытки.
Предыдущие Олины дни в Москве были заняты семинаром, почти не удалось побыть вместе.
Находим кафе, в том же самом доме, с другой стороны. Это почти столовая. Радостно вдруг увидеть книги Похлёбкина, для которых где-то наверху, на одиннадцатом этаже, тоже есть целая полка. Смежность примиряет чуть-чуть.
Отделяем час на прогулку, Лит, Красная площадь, а дальше, занырнув в метро, доберемся до вокзала. Украшения только-только появились на улицах. На площадь нельзя. Заграждения под охраной тройки молодых людей в форме. Встаем на подножку, чтоб быть повыше, и быстрей дальше, найти еще какой-нибудь ракурс. Вот ёлка миниатюрная, крошечные человечки под шаром-мандарином видны благодаря своему количеству. Оле понравились искры в гирлянде. Я бесполезно щурилась, дрессируя пятна, пока не наладила оптику из двух некрепко сжатых кулаков.
В голове сами собой прокручиваются впечатления. Летом мы с Юрием Сергеевичем до позднего вечера переписывали отзывы на дипломников. Он диктовал, я печатала.
За мороженым к вокзалу шла по жаркому асфальту. На обратном пути хлынул колкий дождь. Из лифта выхожу мокрая. Ю.С. на пороге, слегка взволнованный ближайшим будущим моего здоровья, предлагает сразу переодеться в его уже негодный (севший от неудачной стирки) свитер в клетку. На кухонном столе рюмка коньяка. Кладу рядом пакет с клубникой.
Ю. С. говорит:
— А у меня салат клубничный, только сам я его не ем.
Свитер оказывается моего размера.
— Забери себе совсем.
Да я теперь фетишистка. Никогда так не радовалась случайным вещам.
Среди отзывов, которые мы готовим, эссе о смычке, это одна из постоянных историй, Юрий Сергеевич обозначает людей не только по имени, но и через какой-нибудь им присущий атрибут. Кто-то вводится через текст, кто-то по привязке к местности. Есть Женя-психолог. По-разному.
Вдруг понимаю, что до сих пор позволяла памяти очевидный анахронизм, отчего-то думая, что молодой человек, автор этого текста о смычке, написал еще когда-то потрясающую повесть о суровом водителе грузовика, лучшее, что я читала в этом семинаре. Но тот, кто стоял у меня перед глазами, должен был закончить институт давным-давно, и его имя раза в три короче.
В перерывах Ю. С. отвечает на звонки и всем рекомендует мои способности набирать текст.
Он беспокоится о своем старшем друге. Друг пишет книгу о своем открытии. Это большой труд.
– Он старый человек!
Когда Юрий Сергеевич заболел в первый раз, мы с Олей по справочнику отыскали его внучку. Нас успокоили: была операция, он лечится.
Мне тогда снилась огромная кухня, очень похожая на стену почета дома у Юрия Сергеевича.
Юрий Сергеевич был неутомим: то готовил, то заводил разговор со стоящими по соседству людьми, их было много, но он среди них не терялся. Кто-то сидел с тарелкой. Смех, песни, сгущение радости.
Когда я потом рассказывала об этом Ю. С., он сказал:
– Ты видела меня в раю.
Мы выходим на Тверской бульвар. Свет какой-то удивительный. Небо темное. А Лит будто лучится собственным светом. Здание усадьбы кажется мне парящим над землей, слишком, обидно, безмятежным. Без Оли я бы здесь не оказалась, мне слишком тяжело.
Я запомнила день, в самом начале, когда мы впервые приходим посидеть как гости на его семинаре, Ю. С. пропитан испанским солнцем, нам очень светло. Рассказывает о садах и море.
Однажды в субботу, еще на раннем первом или втором курсе, Юрий Сергеевич, его студентка и я втроем приходим в гости к девочке, которая, как и я, заочница. Она уговорила его познакомиться с ее дедушкой. Дедушка – внук Новикова-Прибоя?
– Известный писатель-маринист.
Я вспоминаю это, потому что тут один из немногих случаев, выпадающих из привычного.
Солнечный, теплый день, мы шли через каштаны, и Ю. С. сам себе удивлялся, что поддался непонятной затее: в гости, в какой-то неизвестный дом.
Прошлая зима. Юрий Сергеевич ждет нас в санатории. Находим 318-ю палату. Вспомнил вдруг, сегодня – годовщина смерти жены Тамары. Двадцать пять лет. Но декабрьские цветы были еще раньше. Его отпустительное: «Ну ничего». «Девочкам позвонить – наполовину к себе обращен, – да они помнят, конечно». Розы-листья в вазе на первом этаже, кто-то из пациентов рукодельничает.
Раньше он нам не рассказывал: десять лет не ездил в Германию к детям, только они в Москву. Отпечатывается война, хотя сам этого не ждешь. Олег – старший зять, никогда к ним не приехал. Только Оля. А Ю. С. был в Германии, еще во времена Союза:
– Но это же по работе.
Они уехали за полгода до Тамариной смерти, тоже по рабочим делам. Тамара, увидевшая Гейку новорожденным (он описывал в деталях, а мне запомнилась бестелесность встречи. Может быть, в окошко домофона? Или просто окошко? Стоит перед глазами образ: мальчика поднимают повыше).
И в звенигородском санатории у нас всё равно пир. Инструментарий невелик — ложка и вилка. Я себе, кажется, взяла ложку. Это все недоступная сестра-хозяйка. Заварочного чайника не будет.
Гульнара́, врач, появляющаяся через день, Юрию Сергеевичу нравится. Граненый стакан – отпрыск Мухиной – используем для заварки.
Надо вскипятить еще воды.
Клетки-крупинки сверху как в большинстве казенных учреждений тоскливые, но здешний воздух поддерживает здоровье Ю. С. Заболевать категорически нельзя.
Юрий Сергеевич говорит, что хочет уйти из Лита, довести последних дипломников. Остальные не пострадают.
От нас – мацони, апельсины с необыкновенно развитым черенком, от моей бабушки – пирожки. Она всегда старается передать «дедушке». Юрий Сергеевич угощает нас сделанными дочерью по его рецепту котлетами.
По кругу фотографируем друг друга в тусклом свете палаты. Фотографии не очень четкие, зато динамика есть. Что мы на диктофон записывали, всё пропало.
«Был, — говорит, — сосед-татарин, уехал чуть раньше вашего прихода, девочки!» Ю. С. его жалеет.
Однажды я прихожу к Юрию Сергеевичу 31-го декабря. Он звал сестру, она передумала. Теперь мы собираемся встретить Новый год. Ю. С. помнит, что я люблю очень крепкий чай. Достает мамину, кажется, чашку, огромную. Рассказывает о том, как два дня провел с Шаламовым, будучи очень юным.
Из маленького чайника лью заварку.
Внезапный звонок, – друга сбила машина, легонько. Нужна помощь. Восемь вечера, я выхожу.
Назавтра Юрий Сергеевич звонит очень веселый:
– Это ты забыла у меня сережки?
Да, правда, думала, что они выскользнули где-то у меня из рук. Я постоянно тереблю украшения.
– А ты знаешь, как бы Тамара меня ревновала? Неделю никакой спокойной жизни! Хо-хох! Никогда так не делай!
Он очень долго смеялся.
Оля забыла взять телефон, поэтому в спешке мы возвращаемся домой. Мама с удивлением открывает. Я стучу в дверь комнаты, там девочки закрылись, наконец допущенные. Щелк. Выбегают. Нашелся!
Тяжелый рюкзак и две сумки у меня по бокам гири-крылья. Оля говорит: как лошади в упряжке. По очереди срываемся в скорость.
Надо успеть на Ленинградский вокзал.
Лапшина Галина Сергеевна
Кандидат филологических наук (1970)
Доцент (1989)
Училась на факультете журналистики МГУ в одно время с Ю. С. Апенченко
Из жизни прекрасного начала...
С Юрием Сергеевичем, а вернее, с Юрой Апенченко, связаны мои самые яркие, первые впечатления от Московского университета и факультета журналистики, куда мне посчастливилось поступить в 1954 году. Нас, вчерашних школьников, поразили вечера поэтов, где звучали стихи старшекурсников, прекрасные строки Сергея Дрофенко, Евгения Коршунова, Игоря Дедкова, Анатолия Горюшкина... И Юрия Апенченко. Некоторые ребята просили прочитать свои стихи девочек, уже тогда увлекавшихся театром: помню Ию Саввину, Риту Монахову... Но Юра читал написанное сам. Он смотрелся очень романтично: мы тогда одевались скромно, но его серый свитер так шел к его лучистым серым глазам, к румянцу, с которым он бросал в аудиторию свои полные пронзительной открытости строки... Вечера эти поражали нас и спорами, духом откровенности, иногда беспощадными оценками.
Это было время оттепели, полное романтизма, поэзии (на стенах факультета, на больших ватманских листах появилась поэма Апенченко «Золоченый круг») и... мысли. Курс, на котором учился Юрий, первым заговорил о времени, о нас, молодых, о том, что пришла пора действий. На собрании выступил поэт и комсорг курса Игорь Дедков, он процитировал французского журналиста Лустало: «Великие мира кажутся нам великими только потому, что мы сами стоим на коленях. Поднимемся!» Собраний тогда проходило немало, и Юра там уже был не только поэтом...
Через много-много лет я увидела Юру, теперь уже Юрия Сергеевича, в Доме литераторов на одном из вечеров памяти Игоря Дедкова (известный критик и публицист, он ушел из жизни в шестьдесят лет). Юра говорил горячо, ярко, молодо, будто и не пронеслось над нами полувека...
Наталия Ильина (в девичестве Орлова).
Выпуск 2003 года. Очный факультет
Сердце поэта
1
Давно позади 1998 год, когда я поступала в Литературный институт имени А. М. Горького. Помню, как зимой я собрала все свои юношеские стихотворения и несколько статей, напечатанных в районной газете «Знамя», а также краткую автобиографию, и отправила на творческий конкурс в Литературный институт. Адрес его я запомнила навсегда: Москва, Тверской бульвар, 25. Отправила и стала ждать вызова на экзамены. Про себя я в то время гадала: пройдут мои скромные литературные работы конкурс или нет, вызовут меня на экзамены или нет.
Поздно ночью я мечтала о поступлении на очное отделение Литературного института. Мечтала, мечтала и неожиданно для себя получила долгожданный вызов на экзамены в Лит (так мы называем свою альма-матер). Это письмо с бланком вызова до сих пор хранится в моем письменном столе. Иногда я достаю его и вспоминаю тот счастливый и поворотный год, радуюсь, что поистине великое событие произошло в моей жизни. Я бы добавила даже – чудесное событие, потому что свои стихи я считала обыкновенными юношескими стихотворными опытами: наверное, все молодые люди сочиняют такое в 16 лет. Статей у меня оказалось совсем немного. Честно говоря, мои статьи в те годы только-только стали выходить в районной газете, но именно они сыграли главную роль при моем поступлении в институт.
Я стала готовиться к поступлению в Лит, благо у меня в запасе оказался целый месяц. Вуз я решила покорять самостоятельно, без помощи мамы, которая ранее записывала для меня всё на занятиях. Спросите, почему со мной сидела мама? Потому что с рождения у меня ДЦП. Я плохо говорю, шатко хожу и очень медленно пишу. Именно поэтому мама была моей живой авторучкой, если можно так выразиться.
Поступала я на семинар очерка и публицистики. Руководил им Юрий Сергеевич Апенченко. Это он читал мои присланные на конкурс статьи и, наверное, стихотворения. Решающую роль при моем поступлении на семинар очерка и публицистики сыграли, как я полагаю, мои статьи. Однако я до сих пор иногда сочиняю стихи. Случается это крайне редко, при особенном душевном переживании, а статьи продолжают оставаться основным моим занятием и даже приносят скромный гонорар.
Однако продолжу повествование о своей подготовке к экзаменам в Лит. Помню, как повторяла, учила, зубрила, особенно русский язык, который мне предстояло сдавать и устно, и письменно. Не буду вдаваться во все подробности, но сил для своего поступления я приложила немало. Москву в тот первый свой самостоятельный приезд я не видела. Я не гуляла по ее улицам и паркам, не ходила в музеи и театры, а лишь готовилась к вступительным экзаменам. Их, вместе с заключительным собеседованием, оказалось около восьми. Когда я вышла в небольшой и уютный институтский дворик после собеседования и поняла, что поступила в Литературный институт, меня переполнило чувство огромной радости, восторга и гордости. Мне хотелось закричать в этот момент: «Москва, ты покорилась мне!!!»
В этот день Юрий Сергеевич Апенченко сказал мне: «Наташа, вы поступили в институт. Теперь можете поехать домой, а к 1 сентября приезжайте на учебу». Сказал так просто и доброжелательно, что я запомнила эти слова на всю жизнь. И я, конечно, к началу сентября приехала в Москву. Поселили меня в общежитии на улице Добролюбова, д. 9/11. Так начался для меня один из самых счастливых и запоминающихся периодов в моей жизни – учеба в легендарном Литературном институте и самостоятельная жизнь в огромной, суетливой, но в то же время многоликой и красивой Москве, о которой я не смела никогда мечтать. Все театры и музеи оказались у моих ног, но в первые годы учебы мне было совершенно не до них. Новые предметы для меня были настолько сложными (латынь, английский, старославянский язык и другие), что закрадывалась мысль, смогу ли я сдать первую сессию: экзамены и зачеты? Однако я сдала ее, и довольно неплохо.
Отдельно нужно рассказать о творческом семинаре очерка и публицистики, на котором я училась, и его руководителе, Юрии Сергеевиче Апенченко. Проходил он каждую неделю по вторникам. Вторник был творческим днем в Литературном институте. Лекций по многочисленным дисциплинам в этот день не читали, а проводили творческие семинары: драматургии, критики, прозы, поэзии. Их вели легендарные фигуры русской современной литературы: Евгений Рейн, Олеся Николаева, Инна Вишневская, Владимир Гусев, Светлана Молчанова, Сергей Есин и многие другие.
Семинар очерка и публицистики начинался в обед и проходил в небольшой 24-й аудитории на втором этаже. Рассказывали, что в эту аудиторию в начале ХХ века захаживали известные писатели и поэты. Владимир Маяковский в своей знаменитой желтой кофте здесь играл в бильярд. А в актовом зале на первом этаже Александр Блок впервые публично читал свою известную поэму «Двенадцать».
На творческий семинар собирались студенты разных курсов, начиная с первого и заканчивая пятым. Приходили и студенты-заочники, когда приезжали на сессии. Начинался наш семинар с разбора творческого задания, которое к каждому вторнику нам необходимо было выполнить: написать статью, рассказ или очерк. Студенты-пятикурсники, как правило, к этому времени уже работали в периодических изданиях, поэтому они приносили на семинар свои опубликованные тексты. Их читали и обсуждали на семинаре, как и наши первые юные корявые статьи или рассказы. Юрий Сергеевич внимательно их читал и делал свои замечания. Иногда они были слишком горячими и больно ранили нас, начинающих публицистов.
Мои рассказы тоже подвергались критике. Правда, теперь, спустя годы, я благодарна Юрию Сергеевичу за его разборы моих первых, неопытных рассказов, статей, очерков. Если бы он не делал мне замечаний по текстам, наверное, ничего бы из меня не вышло. Я бы так и не научилась писать статьи, которые с третьего курса Литературного института я стала периодически публиковать во всероссийских периодических изданиях. Эти публикации позволили мне иногда пропускать семинары. Я получила возможность готовиться к занятиям по основным дисциплинам нашего вуза. К тому же мои первые статьи, опубликованные в «Учительской газете» еще в годы студенчества, раз и навсегда разрешили мучивший меня вопрос: «Правильно ли я сделала, что поступила в Литературный институт? Смогу ли я всю жизнь писать статьи, и будут ли их публиковать?» И когда мои работы напечатали во всероссийской «Учительской газете», я решила, что иду верной дорогой. К тому же мне всегда нравилось писать, особенно письма. И я успокоилась насчет своего творчества, продолжая усердно учиться в Литературном институте. Этим моим первым статьям в «Учительской газете» радовался и Юрий Сергеевич. Он всегда улыбался, когда прочитывал очередную публикацию, и говорил: «Наташа, вы молодец!»
Но продолжу свой рассказ о наших семинарах. Нередко они проходили не в стенах института, а на квартире Юрия Сергеевича. Жил он в многоэтажном доме, расположенном в двух шагах от метро «Савёловская». Квартира его оказалась очень скромно обставленной. В ее интерьере было лишь самое необходимое для журналиста и поэта: диван, стол и много шкафов с книгами. Юрий Сергеевич был очень гостеприимным и чутким, я бы даже сказала, по-отцовски заботливым. Нас, студентов из общежития, он старался вкусно накормить и не отпускал до тех пор, пока мы не съедали всего, чем он нас угощал. Чувствовалось, что ему, одиноко живущему в эти годы человеку, не хватает общения, дружеского тепла и внимания. Во время разговоров за чаепитием мы затрагивали разные темы. Мы разговаривали и о литературе, и о политике, и о будущих дипломных работах, и о совсем бытовых предметах и насущных проблемах, особенно тех, что касались нас – студентов из общежития.
Юрий Сергеевич часто говорил нам, что мы должны научиться писать так, чтобы зарабатывать себе кусок хлеба, намазанный, пусть не красной икрой, а сливочным маслом. Потом, незаметно для самого себя, Юрий Сергеевич рассказывал то одну, то другую историю из своей жизни. Особенно тепло он отзывался о работе в газете «Правда», когда он объездил весь Советский Союз. Вспоминал и много интересного о своей работе заведующим отдела очерка и публицистики в журнале «Знамя». Рассказывая о своих статьях и очерках, читая наизусть стихотворения классиков и свои собственные, Юрий Сергеевич произносил – как бы между строк! – и наставления по поводу творческих работ участников нашего семинара. Конечно, слова мастера я запомнила не дословно, но основную суть уловила точно и всегда старалась следовать этим принципам в своей работе. Говорил Юрий Сергеевич примерно следующее:
«Вы, студенты Литературного института, отличаетесь от студентов журфака МГУ. Студенты журфака МГУ пишут профессиональные статьи. Но эти статьи, как правило, носят журналистский характер. В этих статьях встречаются избитые штампы и выражения. Вы же – студенты Литературного института – особенные, творческие люди, и поэтому должны избегать журналистских штампов в своих работах и писать статьи с литературным уклоном, близким к художественным произведениям, к рассказам. Прошу вас никогда не отрываться от творчества в ваших работах, не допускать в них избитых, заезженных стилистических выражений и всегда привносить в свои работы творческое, литературное начало».
Эти наставления мастера я до сих пор храню в сердце, как некую памятку, похожую на молитву «Отче наш…» Даже теперь, спустя почти двадцать лет после окончания Литературного института, когда я сажусь за написание статьи, воспоминаний или рассказа, то непременно руководствуюсь этими словами нашего мастера – Юрия Сергеевича Апенченко. Вечная ему память!
2
«Душа поэта – это скрипка Страдивари…»
У каждого человека есть свой эмоциональный настрой, своя скрипка в душе, благодаря которой создается настроение на день или неделю. Возможно, даже на месяц или год.
У поэтов – это особенная скрипка, я бы даже сказала, необыкновенная скрипка – скрипка Страдивари. Она создает не только их настроение, она иногда уносит их в иные миры. Эти миры – воспоминания о прошлом и будущем, за которыми целая гамма чувств и переживаний. В эти дни и недели поэт может создать удивительное произведение, которое на века останется жить в мире литературы, слова и языка.
Юрий Сергеевич Апенченко был именно таким поэтом. В его душе жила и звучала скрипка Страдивари, тонкая, нежная и чуткая. Об этом мало кто знает, потому что в Литературном институте он руководил семинаром очерка и публицистики.
Именно в микрокосмосе души Юрия Сергеевича Апенченко могли родиться такие строки: легкие, как взмах лебединого крыла… И вечные, как лебединая верность:
Ты хочешь ли на лёгкой лодке
проплыть, как лебедь между льдин,
и вёсла лёгкие, как локти,
поднять над миром голубым?
Ты хочешь ли, чтоб против правил
всего живого естества
я на глазах, как снег, растаял
и вновь поднялся, как трава?
Чтоб тёплый дождь ударил ночью
и на рассвете пал туман,
и болтовня ручья сорочья
была занятна, как роман?
Чтоб он окончился внезапно,
на полуслове тишиной
и ты сказала: «Всё понятно.
Мне хорошо. Побудь со мной».
Образное восприятие мира и невесомое, хрупкое отображение его в стихотворениях, оставалось в личных тайниках сердца поэта. Делился Юрий Сергеевич стихотворениями не со всеми, а лишь со своими студентами, которые иногда собирались у него в гостях, пили чай и слушали мастера:
Над землёй оробелой
первый снег, первый снег.
Первый снег – самый белый,
самый чистый из всех.
Он по площади чёрной,
словно праздник, пройдёт
и растает, покорный
произволу погод...
Первый снег – это память
обо всём, что хоть раз,
пролетая над нами,
остаётся при нас.
Но останется то лишь,
что сами хотим.
Ты у Пушкина помнишь:
«Давай улетим»...
Мне сегодня не спится.
И всю ночь за окном
машет вольная птица
белоснежным крылом...
Мы пили чай, а Юрий Сергеевич все читал и читал свои стихи. Ему будто хотелось выговориться и открыть нам частицу своего мира, чтобы помнили его… И ему это удалось. Я до сих пор вспоминаю точные и ясные стихотворные строки-размышления о работе, когда начинаю писать очередную статью:
Работать, знаете, как надо?
Как будто завтра умирать.
Чтоб и чугунная ограда
нас не сумела обуздать.
Тем более ни шум в передней,
ни праздный, ни застольный глас.
Работать надо – как в последний
иль будто бы в последний раз.
Увы, не часто так бывает.
Не часто – ни к чему враньё.
Возможно, сила убывает.
Возможно, просто нет её.
Но тем, наверно, и дороже
невозвратимый этот миг,
когда азарт в тебя до дрожи,
до сердца самого проник.
И ты на жизнь глядишь иначе,
печалясь только об одном, –
что так ретиво стрелка скачет
на циферблате часовом.
Всё сходится в единой пяди,
весь мир упёрся в остриё
струи огня, строки в тетради,
и в этом мире – всё моё.
Моя судьба, моя тревога,
мой звёздный и беззвёздный час.
В конце концов, не так уж много
осталось времени у нас.
Мы вырвемся из чёрной пасти,
а как мы это назовём,
работа просто или счастье –
за нас потом решат. Потом.
Алла Смирнова
Выпуск 2013 года. Очный факультет
***
Юрий Сергеевич научил меня не «хорошо учиться», а «хорошо учиться для». Для того, чтобы мои тексты брали в ведущие издания, для того, чтобы они находили отклик неравнодушных читателей. Сейчас уже, наверное, можно признаться, что все пять лет меня немного удручало отсутствие своей генеральной темы. Я пробовала писать о разном, наблюдала за непохожими людьми и ситуациями. Апенченко говорил, что можно ни о чем не переживать: «Продолжай наблюдать, тренируйся». И я продолжала, хотя было ужасно сложно, писать каждую неделю. Иногда тексты получались откровенно неудачными, но случались и маленькие победы.
Мне нравилось, что он учил, не поучая. Мягко направлял, деликатно давал советы, делился впечатлениями о прочитанных книгах. Весной 2013-го мы не спеша собирали и редактировали мой диплом, сидя на кухне его квартиры на «Савёловской». Я тогда увлекалась документальной фотографией. Юрий Сергеевич предложил проиллюстрировать тексты моими снимками, я так и сделала. Вспоминаю с теплотой наши семинары, дорогой мастер. Вас очень не хватает.
Фёдор Проходский
Выпуск 2015 года. Высшие литературные курсы
Константа
Имея дело с гуманитарным знанием, в поисках чувства опоры хочется обратиться к древнему, неизменному источнику знаний.
Возможно, подобные древности уместно было бы назвать «константами» — они были задолго до нас, есть при нас и, кажется, будут после нас.
Разумеется, Литературный институт изобилует подобными источниками постоянства. К ним можно причислить и само здание на Тверском бульваре, и ауру литературного сообщества, и, конечно же, учителей.
Каждый студент может вспомнить для себя такого вот учителя-константу.
О многих должно и следовало бы написать не очерки и не статьи, а книги, однако обстоятельства позволяют мне оставить лишь краткое письменное воспоминание о мастере, чьи творческие семинары долгое время проходили в аудитории имени Шолохова.
Учась на ВЛК, я посещал встречи у Юрия Сергеевича в качестве слушателя и большей частью только молча внимал ему, сидя в углу.
Не столь продолжительная, как у студентов дневного отделения, возможность знать Юрия Сергеевича, к сожалению, ограничивает мои фактические воспоминания, однако вполне позволяет поделиться ощущением монументальной неизменности, которым я проникался у него в мастерской.
Казалось, что его чуть сутулая фигура, склонившаяся над текстом, его «привет» с особенно мягким, если не сказать нежным звуком [р’], обращенное к каждому входившему студенту, его воспоминания о бывших учениках и о знакомых фотографах-классиках были всегда. Менялись студенты, менялись марки машин, проезжавших по Бронной во вторник утром, кнопочный сотовый телефон с антенной сменился, в конце концов, планшетом, а Юрий Сергеевич Апенченко неизменно был на своём месте под портретом Шолохова.
За подготовку материалов благодарим Марию Пронченко и Альгиса Руйбиса.