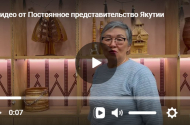С мечтою о голубом цветке. Александр Панфилов к 150-летию Михаила Кузмина

Для всякого крупного писателя у нас найдётся в памяти устойчивый визуальный образ. Говорим ли о Пушкине, тут же вспоминаем портрет Кипренского, где всё гармония и чудо жизни. Достоевский отводит от нас глаза на перовском полотне, глядя даже не вовне, а с мукой в себя; Блок с лицом, напоминающим маску, так увиден Сомовым… Большие художники, запечатлевая лица, на самом деле открывают внутреннего человека. Есть у того же Константина Сомова такой портрет и Михаила Кузмина – 1909 года, времени наивысшей популярности писателя, лишь за три года до этого буквально ворвавшегося в литературу. Как бы раздвинувшего плотный ряд тогдашних кумиров, заговорившего о самом простом, ясном, но с такой пронзительной интонацией, что в мгновение ока очаровал и самых мудрых, и публику, которая, как оказалось, давно тосковала по подобной простоте и ясности.
Парадокс заключается в том, что сам-то портрет непрост. Эти огромные, влажные, не то, как писали, «византийские», не то «ассирийские» глаза почти надменны, но и лукавы, «закрыты» в то же время, а волосы, зачёсанные с боков на лоб, вот-вот, кажется, могут превратиться в бесовские рожки. Не случайно Ахматова в своей поздней «Поэме без героя» представила Кузмина в образе «изящнейшего сатаны», «кто не знает, что совесть значит и зачем существует она». Да-да, та самая Ахматова, к первому сборнику которой Кузмин в своё время написал предисловие – почти программное (для себя) и весьма проницательное (для неё). «Поэты же, – отмечал он в нём, – особенно должны иметь острую память любви и широко открытые глаза на весь милый, радостный и горестный мир, чтоб… пить его каждую минуту последний раз».
Между тем сомовский портрет насколько загадочен, настолько и целен и прекрасно дополняет многочисленные словесные портреты Кузмина, в которых его современники с разной степенью точности пытались описать феномен этого ни на кого не похожего человека. Стоящего в гуще художественной жизни Серебряного века и вместе с тем как бы в стороне, вне тогдашних художественных школ. Нашёптывающего под аккомпанемент рояля или гитары свои «стишки», не стыдящегося своих гомосексуальных романов, без труда проговаривающего невозможные откровенности, зовущего жить легко и празднично. «Всё, что прошло, как груз ненужный, / Оставь у входа навсегда. / Иди без дум росой жемчужной, / Пока горит твоя звезда. / Летают низко голубята, / Орёл на солнце взор вперил. / Всё, что случается, то свято; / Кого полюбишь, тот и мил».
А художественные «партии» что ж? Главные условия существования художественной школы, по мнению Кузмина, есть односторонность и фанатизм; ни ослеплённым, ни смешным он быть не хотел. Его тянули к себе символисты (шутка ли, Кузмин четыре года прожил на «Башне» у Вяч. Иванова!); его старательно призывали под знамёна акмеизма (знаменитая кузминская статья «О прекрасной ясности» по сию пору иногда трактуется как акмеистский манифест); Хлебников и Георгий Иванов почитали его за главного учителя в поэзии, но сам Кузмин ко всему этому относился с известной иронией. В начале 1920-х годов, впрочем, он затеял некую поэтическую «секту» «эмоционалистов», но это была вряд ли школа – скорее некий междусобойчик близких людей, привыкших проводить время вместе.
Нет, главное оставалось прежним: «Если завтра будет солнце, мы во Фьезоле поедем, / Если завтра будет дождик, то останемся мы дома…» Кузмин не выносил учёных разговоров, предпочитая сплетни и рассуждения о том, как лучше варить варенье; он изо всех сил избегал «умственности», хотя эстетство и особая учёность были написаны у него на лбу. И была своеобразная мозаичность в нём. «Как причудливо перемешались в этой личности, – удивлялась М. Сабашникова, – российское православие, александрийская Греция и фривольный XVIII век». «Это не было механической смесью, а органическим единством, – вторил ей Г. Чулков. – Как это ни странно, но старопечатный «Пролог» и пристрастие к французскому XVIII веку, романы Достоевского и мемуары Казановы, любовь к простонародной России и вкус к румянам и мушкам – всё это было в Кузмине чем-то внутренне оправданным и гармоничным».
К этой гармонии Кузмин шёл долго и мучительно. К тому, чтобы первый свой стихотворный сборник «Сети» (1908) со знаменитыми «Александрийскими песнями» открыть не менее знаменитым стихотворением: «Где слог найду, чтоб описать прогулку, / Шабли во льду, поджаренную булку / И вишен спелых сладостный агат? <…> Дух мелочей, прелестных и воздушных, / Любви ночей, то нежащих, то душных, / Весёлой лёгкости бездумного житья!..» И продолжить чем-нибудь вроде: «Умывались, одевались, / После ночи целовались, / После ночи, полной ласк…» И в скандальном романе «Крылья» (тоже дебютном) уподобить открытие в себе гомосексуальной природы выросшим за плечами крыльям.
Кузмин вырос в не очень счастливой семье, в детстве страдал от одиночества. Единственный на долгие годы друг у него появился только в гимназии – такой же одинокий и никем не понятый отрок, живший книгами и музыкой. Им оказался Юша Чичерин (в будущем советский нарком иностранных дел Георгий Чичерин). Он стал не просто другом, но и в некотором роде наставником, превосходя Кузмина в знании мирового культурного наследия. Чичерин как бы слегка остужал постоянно склонного свалиться в истерику Кузмина, подталкивал к чтению тех или иных книг (Ницше и Шопенгауэра, например), предлагал исторические концепции, увлекал итальянской и немецкой культурами, поддерживал его в музыкальных и поэтических опытах. Их дружество продлилось на двадцать лет и постепенно сошло на нет, когда Чичерин в 1904 году уехал за границу, решив разобраться с радикальными социальными теориями (но до 1907 года он продолжал спонсировать своего приятеля – чичеринская невестка по его просьбе выдавала вечно нищему Кузмину ежемесячно 100 рублей). Многостраничная переписка Чичерина и Кузмина – это взволнованный «захлёб», дневник «для другого», «для друга», не прекращающийся ни на минуту диалог. «Мне так грустно, так истерически грустно, и сам не знаю отчего, – писал двадцатилетний Кузмин Чичерину. – Мне всё приходит в голову рассказ Новалиса о голубом цветке, о котором мечтал и тосковал Генрих Офтердинген. Никто его не видал, а между тем весь мир наполнен его благоуханием. Не все способны ощущать этот запах, но кто раз его вдохнул, тот не будет иметь покоя в жизни, вечно ища его, фантастического, всесильного, мистического. Где его найдёшь?..»
Кузмин искал, то и дело впадая в отчаяние и совсем не походя на того «гармоничного» Кузмина, которого публика узнала в середине 1900-х годов. Три года он учился в консерватории, срывался в Египет, путешествовал по Италии, переживал бесчисленные гомосексуальные романы, каялся, молился, писал духовные стихи, увлекался гностицизмом, жил в старообрядческих скитах… В символистские гостиные он явился, по собственному позднему признанию, «эстетическим Распутиным» – в поддёвке и с окладистой бородой. Считал себя музыкантом. По одной из легенд (а их вокруг Кузмина роится великое множество), к сочинению собственных стихов его подтолкнул Брюсов. «Вы не можете найти чужих слов для своих мелодий, – будто бы сказал он, – ну так напишите свои». И предоставил ему для публикации страницы своих «Весов». Красивая легенда, но мы-то знаем – из той же переписки с Чичериным, что стихи Кузмин сочинял с юношеских лет. Мутные, сложные, всякие… Он и тут искал. Что? Стиль. Вот ту самую «прекрасную ясность», которая намертво приросла к имени Кузмина. То есть в литературу 33-летний Кузмин пришёл со своим стилем. И со своей гениальной способностью стилизовать что угодно. По-другому, сложившимся писателем, что, собственно, все и признали, подозревая между тем в нём какую-то загадку. «Когда видишь Кузмина в первый раз, – писал М. Волошин, – то хочется спросить его: «Скажите откровенно, сколько вам лет?» – но не решаешься, боясь получить в ответ: «Две тысячи».
Менялся ли он впоследствии? В бытовом отношении – нет; в творческом – несомненно. На закате жизни Кузмин оценил по пятибалльной шкале все свои одиннадцать поэтических сборников. «Пятёрки» удостоились два – первый («Сети») и последний («Форель разбивает лёд»). Когда смотришь на год издания последнего сборника – 1929-й, не веришь своим глазам, он совершенно не вписывается в тогдашний «хронотоп». И не потому даже, что архаичен; он просто в полнейшем разладе с эпохой. Сам же сборник скорее футуристичен, прорицателен – и совсем не похож на прежнего Кузмина: изощрённой формой, стилистической мозаикой, «затемнённостью» смысла. В «Форели...» отчётливо слышится гул будущей ахматовской «Поэмы без героя»: «Художник утонувший / Топочет каблучком, / За ним гусарский мальчик / С простреленным виском…»
Кузмин умер вовремя – в 1936 году. Его квартира оставалась законсервированным осколком Серебряного века, ещё год-другой – и судьбе Кузмина вряд ли можно было бы позавидовать. Юрий Юркун, самая большая и самая долгая любовь Кузмина, хранитель его архива, был арестован и расстрелян в 1938-м. С ним исчезли и кузминские рукописи 1930-х годов. Увы.
Александр Панфилов,
кандидат филологических наук