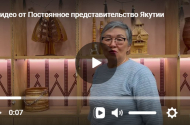Славик. Сергей Арутюнов — памяти поэта Вячеслава Памурзина

Какой же всё-таки бестолковый, бессмысленный жанр эти некрологи. За их редкой дымовой завесой не видно главного – торжествующего в каждом уходе человеческого одиночества. Огромный восклицательный знак ставится в конце каждой поэтической судьбы, но прочесть его – не то что разгадать! – никто и не может, и не собирается.
Все эти «не уберегли», «безвременно», «незабвенный» – попытка оставшихся в живых растолкать свою крепко спящую совесть, в том числе коллективную, существование которой – очередной исчезающий на глазах фантом родом из советского ещё обихода.
***
Поэтическое сообщество Москвы – фигура причудливая, окраса и экстерьера несомненно богемного, но качества при этом, уровня понимания поэтики – устрашающе фабрично-заводского.
Наблюдатель «московского поэтического ничего» видит симпатические конвульсии распавшегося на неравномерные и неравноценные отдельные сгустки осиного роя. Каждый из них пытается возродить на свой лад «нормальный ход событий», полагая, видимо, что количество общественных акций перейдёт в некое качество. Порой формы возрождения выглядят удивительно провинциально, будто бы и не Москва их породила, а некое производственное объединение, мелкая артель, в которой одни идолы, моды и увлечения бестолково и медленно сменяются другими.
Неровная, с рваными краями туча смыслов, концентрирующих сегодня в основном несбывшиеся надежды на ту же «социалистическую нормальность» – получение от общества подобающего вознаграждения за стихосложение, вот, пожалуй, тот контур, которым всё и исчерпывается.
Преуспевающих (хотя о каком преуспевании может идти речь в поэзии, брошенной обществом на произвол судьбы за ненадобностью?) цеховых коллег ненавидят. Именно потому охотнее жалеют тех, кто никому и никогда не перешел дороги, и тем не раздражал и так уже раздражённых с утра до вечера коммунальных нравов. Те, кто поняли всю немыслимость общественного успеха как воздаяния, мысленно отказавшись от него и ни на что больше не претендуя, выглядят в этой среде настоящими героями. «Никогда ни на что не жаловался» - по сути, варварская добродетель, к поэзии почти никакого отношения не имеющая.
«Отдал жизнь словесности»? Это теперь значит «служил, не требуя наград» и умер в нищете, почти под забором.
Потому что нельзя служить двум господам – Поэзии и Жизни.
***
Году в 2018-м «Акупунктура» вдруг состоялась на ВДНХ, то есть, не на самой выставке, а чуть в стороне. Был там какой-то совершенно в духе «славных девяностых» торговый центр – по-китайски монолитная масса рябящих вывесок. Наш вход был справа – пара пролётов вверх, и довольно большой зал, с нормальной сценой, куда большей, чем в стандартном Доме культуры.
Славик был с Леной, они сидели в каком-то даже бельэтаже. Пока читали не слишком знакомые люди, он подошёл ко мне с какими-то нежданно тёплыми словами, и стоял около меня долго, пытаясь что-то добавить, но слов у него явно не хватало. Был он в лёгкой дозе, чувство его разлилось, и, поняв это, я просто молча стоял рядом, зная, как он ко мне относится. Всё нормально.
Спустя час я увидел, что Славик опрокинулся на стол. Рука его, хорошо выточенная рука с рельефными венами, бессильно рухнула к самому полу. Лена не стала хвататься за голову, вообще устраивать какие-то пляски, просить нас вынести лёгкого Славика на воздух. Просто была рядом.
Тогда, кажется, я понял, как всё серьёзно, но, конечно, не мог и подумать, что Славик не одолеет барьер 37-летия.
Что до меня, порог рокового для поэтов года я миновал почти безболезненно. Потерял мать, встретил ослепительно радостное рождение сына, пережил сокращение со службы, и начал странствие по всяким подозрительным конторам, откуда меня постоянно норовили вышвырнуть, и, надо сказать, сила была за ними. Такие вот странствия в пределах родимого мегаполиса, грозившие разорвать натуру, вынудить её совершить что-то дикое. У Славика же в его 37 как раз вроде бы стало налаживаться. Семья, работа, выход первой книги.
***
Не помню дня нашего знакомства. Хоть убей.
Круг Сергея Геворкяна и его «Акупунктуры», Иры Кузнецовой и её Арбатской литературной мастерской – я даже года не могу восстановить, когда впервые выступил у них. То ли в «Дулин Хаус» на Арбате, то ли ещё где-то – забыл намертво. Помню только, что когда Славик уже поступал в Литинститут (2006), я уже откуда-то его знал. Он поднялся из заднего ряда на дне открытых дверей и спросил, можно ли поступить «на семинар Арутюнова», но Есин парировал, что сначала надо просто поступить, а там видно будет.
Попал он к Геннадию Красникову, но часто бывали у меня, и работали, как волы. Он и Рома Ненашев, и ещё пара людей, выпавших потом из поля зрения.
***
Был он невысок, с ярко горящими на лице любопытными глазами в обрамлении угольно чёрных волос, будто сошёл с плаката одной из тогда уже позабытых команд «тяжелого металлического рока». С той поры не поправился ни на грамм, и почти всегда – в добротной страннической косухе чрезвычайно плотной кожи, способной отразить удар финки, узких чёрных джинсах и пехотных берцах. Высокий стиль.
Заметив нас у входа в корпус, можно было предположить, что мотоциклы свои мы оставили за оградой. Только не было у нас никаких мотоциклов. Никто не въезжал в них во двор, не сходил с пропылившихся сёдел. Мы были и остались безлошадные. Все понимали, что у нас вместо них – всего-то русская поэзия, способна уносить далеко-далеко, и куда более опасная, чем обычный движок о двух колёсах.
***
Во дворе Славик так и стоял – на широко расставленных ногах, будто только что из седла. Говорил степенно, имитируя кого-то дородного, двухметрового, состоявшегося, и тем донельзя довольного. Это было комично, но это был тон его самозащиты, точка приложения характера, беззвучно рвавшегося в немыслимую, недостижимую свободу. Вечная осенняя мгла, тихие смешки в перекурах.
Тон его, пародийно купеческий, словно за прилавком, полным отменного товара, менялся лишь при разборе стихов – здесь голос его взлетал, и он становился виден весь до конца – нервный, неуёмный, погибельно влюблённый в поэтический транс, прекрасно различающий малейшие оттенки речи, недоговорённое, не могущее быть прочитанным слёту.
Начитан он был от и до, а ассоциативные связи его простирались от дореволюционного до постсоветского наследия мгновенно. Не только прекрасная память – он многое помнил наизусть. Знал и стиховедческие премудрости – подарил семинару обозначение выпуска глагола или другого второстепенного подразумеваемого, именуемое «эллипсисом», и замечательную «амфиболию», при которой неясно (в винительном падеже), кто кого что, ещё пару таких же ёмких терминов.
Дорогу в никуда – осилит не идущий,
И зябко до утра в метели гробовой
По сумеркам гадать, как по кофейной гуще,
Которая беда накроет с головой.
***
То были годы Живого Журнала, где у Славика была кличка dontkihot, в которой мечтание мешалось с отрицанием.
Мы шли параллельными курсами, и это было здорово. Стоило мне выложить что-то, спустя полчаса выкладывал он, и наоборот. Точили рифму. Длилось это, по ощущениям, не меньше года. Кромсали язык, как хотели и как могли, ненавидя лишь мельчить, впадать в филологию там, где множество ощущений и сюжетов оказывались не явленными, не проговорёнными.
***
Кто про что, а вшивый про баню –
Клянчит смерть, чтобы вусмерть залиться.
Я навеки тебя забаню,
Дорогая моя столица.Отгуляли с тобой, отпели,
Отхомячили райские суши,
Отожгли октябри-апрели
В лютом тигле февральской стужи.Бутиков кружевные марши
Вдаль по площади нелюдимой
Впали в чёрные Патриарши -
Светлой памяти талой льдиной.Только вымерзшие фонтаны
Сберегли родниковой водки,
Где скамеек мосты фатальны
И прощения подневольны.Где судьбу посылал наотмашь,
Ухмыляясь темно и глухо.
Это всё не большая роскошь -
Не желать ни пера, ни пуха.Только рухнет зима в затылок
Пьяной в дым ледяной дубиной,
Чтоб башка навсегда забыла
Ласки родины нелюбимой.
***
В 2008-м читали вместе в Булгаковском доме. Я позвал Славика, и он был поражён. В его сознании я, видимо, одно время слыл каким-то небожителем, протянувшим из туч пресветлую длань. Я сказал тогда – Славик, всё нормально, мы примерно одного уровня, и до сих пор так считаю. В поэзии нет учителей и учеников, если учитель не из прежнего колена или давно не лежит в земле. Всё создающееся сегодня – общее достояние, где никто не выше и не ниже другого.
На обсуждениях его собственных подборок я неизменно указывал Славику, что он здорово погряз в своей мелодике, и она, насквозь пост-пролетарская, уже выглядит слегка пародийно. Он любил не просто каких-то подпольщиков вроде Роальда Мандельштама – он сам был знатным подпольщиком, знатоком и ценителем того, что лежит явно за пределами институтского курса и дискурса.
– Дидусенко? Это ж был такой ядерный алкаш!
«Алкаш» здесь звучало эпитетом положительным. С кого ж делать жизнь, как не с таких вот мухобоев? Образцы были перед глазами.
Мне был тогда различим завет, который он в себе нёс: преодолей скуку пространства и времени, перенеси на ногах водочные муки, покажи, что тебя голыми руками не взять, и слово твоё донесётся тогда летним громом с ещё ясных небес.
***
– Слава, почему вы уходите из Лита?
– Да я же ничего не пишу.
Речь прервалась в нём внезапно, и он не захотел занимать чьё-то место. Промучившись с гуманитарным курсом, он понял, что кружится на одном месте. Живой журнал был заброшен.
Странно: он не упал на дно, не исчез, а постоянно был с нами на представлениях наших тощих книжонок. Любое место и любое время – он, первый, пришедший заранее. Рядом – верная Лена. Крепкое рукопожатие миниатюрной руки, стойкие оленьи ноги, ищущий взгляд, иногда немного расфокусированный. Тщательно скрываемый интерес к спиртному? Да пожалуй, что нет. Не проявлялся. Я бы обратил внимание на жажду, но её в нём как будто бы не было. Первой его жаждой была поэзия, и он опьянялся ею, как мог. На полную. Обмывать чужие удачи было традицией, которой он если и противился, то незаметно.
***
«Я инженер на сотню рублей» (с). Мне ли не знать, чем были постсоветские НИИ, облепленные дешёвой плиткой, остановившие ржавые входные часы, сдавшие первые этажи автомобильным маньякам с их шино-монтажом, балансировкой и сходом-развалом? Полупустые коридоры, отчаяние.
Проходя насквозь через один из таких «вестибюль-холлов» по служебной надобности, я посвятил Вячеславу Памурзину стихотворение «Столовая» – о гастрите скорее душевном, чем физиологическом, о непереносимости прежнего имперского быта, испаряющегося на глазах. О той самой степенности, не имеющей никакого морального права быть степенной.
В те годы Славик перешёл из инженеров в курьеры, из студентов в студенты бывшие. Он несколько раз хотел вернуться.
Как всё на этом свете интересно,
Тебе не интересно ни шиша.
За что на этом не находит места –
За то и называется «душа».
***
Цель циклопического круга – замыкание силовой линии на самой себе, а вовсе не возвращение в исходную точку. Я видел Славика почти постоянно и голос его, завораживающий, такой тёплый и дружеский, ничем не говорил мне о том, что происходит. Он был предельно дружествен, горяч, запредельно добр ко всем. И предельно же замкнут. Он действительно не жаловался на своё нигде и ничего. Может, останься я с ним на пару пластиковых стаканов, из него бы вырвалось что-то отчаянное, и я бы понял, что делать. Но – ничего.
***
Я часто заговаривал с ним о книге, о его книге. Убеждал, что он должен, обязан издать хотя бы что-нибудь. Сначала он отмахивался, посмеиваясь, отвечая, что давным-давно ничего не писал. Потом, видимо, начал тревожиться. Стихи ушли слишком надолго. Он стал звать их назад, но они медлили. Один раз он позвонил мне, спрашивая, что делать.
Я отвечал, что делать ничего не нужно, кроме того же, что мы и делали с ним лет десять назад. Не надо звать стихов, призывать их или приманивать. Надо войти в воду и сделать несколько сильных гребков, пусть вразрез с дыханием, но вода подхватит и понесёт. Вода языка помнит его тело. Он настоящий пловец.
Тогда он заплакал. Я расслышал, как он плачет. Он сказал, что мне и Геворкяну он верит до конца. Что поднимется, что преодолеет этот мёртвый обморок. Где-то через год он звонил, спрашивая, где можно издать книгу. Я посоветовал издательство, и Дана Курская взяла её. А ещё через месяцы мы увидели «Мёртвую петлю Весёлого Роджера».
***
Я был на представлении его книги в Зверевском ЦСИ, простоватого вида сарае с дощатым полом и потолком, неестественно вытянутой избе посреди города.
Славик был счастлив. Читал он так, что перекрывал всех. Москва, собравшаяся на его книгу, была в восторге, а зал был полон. Без малого восемьдесят человек, связанных узами и поколения, и опыта, млели, слушая речь бескомпромиссную. Спрашивали себя – а почему его не было раньше?
Он был подпольщик. Поэтому.
В этом нет никакой философии, ни
разумения – всё бестолковые дни,
вековое подполье, скорее.
В макрокосмосе вечно спешащий микроб,
на работу – с работы, в метро – из метро,
взад-вперёд на пинболесабвея.…
Из подполья – в подполье, с избытком и без –
умещается жизни нехитрый процесс
в небольшую трёхсложную виршу.
Но не пишется мне, как «не пишется мне»,
и уже не пишу – только вижу во сне,
что не брежу и не
ненавижу.
Странным образом он был привержен представлениям о чести, сформированным в предыдущую эпоху, представлениям нонконформистским, указывающим на единственно достойное место тонкого, одарённого, мыслящего и чувствующего человека – в дворницкой или будке ночного сторожа.
Кстати, те, что были в семидесятых сторожами и дворниками, потом своего всё равно добились – те, кто дожил. Россия так добра, что позволила им возместить непризнание официозом. Их не просто пропечатали во всех мыслимых и не мыслимых журналах – их увешали премиями, пытались выдвигать чуть ли не на Нобелевку.
А Славик – за них всех – верил, продолжал верить, что чем человек честнее, тем он беднее и потаённее.
Как нет тебе ни званий, орденов,
ни волкодавов, ни овец паршивых.
И ты один, и едешь одинок –
одним из одиноких пассажиров.
***
Рифма его была навылет. Абсолютный слух на новое созвучие, обрамлённый драматизмом нулевого сюжета.
Поколение Славика – то, с которым не случилось ничего, кроме Второй Чеченской. Зарево второй половины 2000-х даже кровавым-то толком не было. «При ликвидации группы сепаратистов в Дагестане погиб сотрудник управления «В»». И ещё один, и ещё. По капле. Небось, не Отечественная. Рутина. Была – и есть – стагнация, тихое гниение всего, с чем нас выпускали в жизнь. Хемо-люминесценция всяких там болотных коряг вроде «партии», «Родины», «долга» и «чести». Не за что схватиться.
Как будто доблесть бесполезная
Скакать, не выпив с бодуна,
Моя высокая поэзия
Ему и на**р не нужна.…
В моём подгузке зреет паника,
С народом связь мою поправ.
Но ты не прав, охранник паркинга,
Не знаю в чём, но ты не прав.
Не все могут жить в вакууме. Я не о социально-политических сальто идеологии и тем более не об отвлечённых идеях общественного договора или иного блага. Я скорее о смысловых паузах, более понятных поэту, чем кому-либо, о метафизическом провале, в который мы угодили, об экзистенциальной обнажённости жизни, не находящей после срыва с железобетонных опор себе ни места, ни смысла. По сути, всё, что мы видим, это крушение, растянутое во времени. Ну, невозможно – понимаете? – ни год, ни десять, ни тридцать лет смотреть за поездом, пущенным под откос и всё не достигшим дна оврага. Или ущелья.
Славик смотрел. Старался не заморачиваться, но смотрел и смотрел расширенными зрачками за тем, во что превращается человек. И болезнь в нём росла.
Не приставай с расспросами – чего
так долго не звоню, куда пропал?
Пять столбиков за месяц накропал,
а ведь бывало – вовсе ничего.А ты уж сразу – «долго не звоню».
Пять столбиков мои, представь себе,
не то, что о тебе – не о тебе,
скорее, позвоню – не позвоню.Представь себе вселенскую тоску,
с которой инженер НИИТП,
пройдя АСКП и КПП,
терзает изнурённую строку.Представила? – сиди и представляй.
Пять столбиков не терпят суеты.
Я позвоню когда-нибудь, но ты
с расспросами ко мне не приставай.
Взглядов его я не знал. Его вообще мало интересовало внешнее. Он видел лишь внутреннюю жизнь, жизнь слова, которое единственное и было ему дорого, и оно крошилось и крошилось в пальцах, становясь чем-то бессмысленным, пустяковым, мало что значащим. Ему всё чаще казалось, что основное им уже сказано, а дальше – стоит ли смешить людей? – пойдёт спад. Он хотел удержаться на вершине, в которую сам верил с трудом. А следующая была далеко, и надо было спуститься к её подножию и снова начать восхождение.
Природная доброта не позволяла ему бить морды или вступать в террористические ячейки. Что он видел в жизни? Лена возила его по экзотическим странам (и были-то пару раз, но он наверняка был дико благодарен судьбе за шанс увидеть и ощутить, что мир – есть), пыталась отвлечь от вечного российского демисезонья жаркими нездешними лучами. Было непривычно видеть его в бриджах, черных очках, среди волн или кактусов, но он там был.
***
О нём не напишут ни «Россия сегодня», ни «Интерфакс», ни «Росбалт». Масштаб… а что они знают о масштабах? Русский поэт, проживший всего 37 лет, оставивший миру всего одну книгу – сбылся? Да. Всецело. Если бы я не верил в это, то давно бы оставил ремесло сам.
Мы простимся с ним в среду, 4-го ноября. Но если уж говорить о наложении дат, то в нас, пока оставшихся, вряд ли наметится примирение и согласие насчёт одного странного факта – с годами, отсчитанными уже после России якобы «тоталитарной», жизнь поэта подешевела даже больше, чем какая-либо иная. Подешевела настолько, что уходи мы пачками, оставляя по себе целые библиотеки, никто этого так и не заметит.