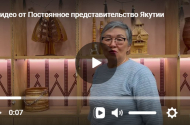Слово, отогретое в ладонях. Александр Панфилов о Юрии Казакове

В писательской судьбе Юрия Казакова (1927–1982) есть несколько загадок. Одну из них можно сформулировать вопросом: как случилось, что 26-летний не слишком образованный музыкант-контрабасист, поступив в Литературный институт с совершенно провальными текстами, вышел из его стен знаменитым молодым писателем, в котором многие тогдашние признанные мэтры от литературы (К. Паустовский, В. Шкловский, И. Эренбург, М. Светлов и др.) увидели одну из главных надежд отечественной прозы?
Ещё одна загадка Казакова – несовпадение «внешнего» человека и тончайших лирических рассказов, выходивших из-под его пера. Эта загадка стала темой стихотворения Е. Евтушенко, написанного в 1963 году. Тогда, после разноса, устроенного Хрущёвым на встрече с творческой интеллигенцией, и последовавшей за ним бюрократической выволочки, Евтушенко оказался на грани самоубийства. Юрий Казаков, по сути, спас поэта, взяв его с собой в долгое северное путешествие. И родились эти евтушенковские строчки: «Комаров по лысине размазав, / Попадая в топи там и сям, / Автор нежных, дымчатых рассказов / Шпарил из двустволки по гусям. // И грузинским тостам не обучен, / Речь свою за водкой и чайком / Уснащал великим и могучим / Русским нецензурным языком. // В темноте залузганной хибары / Он ворчал, мрачнее сатаны, / По ночам – какие суки бабы, / По утрам – какие суки мы. / А когда храпел, ужасно громок, / Думал я тихонько про себя: / За него, наверно, тайный гномик / Пишет, нежно пёрышком скрипя…» Это длинное стихотворение, Евтушенко страдал многословием, – кто захочет узнать финал, легко найдёт текст в Сети.
Наконец, одна из самых томительных загадок – молчание Казакова в зрелые годы; за последние пятнадцать лет жизни он написал лишь два (но каких!) рассказа да ещё несколько, скажем так, «подсобных» текстов. И если с первыми двумя загадками можно ещё так-сяк разобраться, то насчёт третьей существует множество противостоящих одно другому мнений, и ни одно из них не тянет на истину, это всё лишь версии. Разговор об этих загадках невозможен без знакомства с некоторыми биографическими фактами.
Казаков был москвичом, арбатским мальчиком – но москвичом в первом поколении; его родители, выходцы из крестьянства, покинули смоленскую глубинку и в поисках заработка обосновались в Москве. Это была очень простая семья (отец – сапожник, мать – медсестра), которую не обошла беда: когда Юре было пять лет, отца за неосторожно брошенные в нетрезвом разговоре фразы арестовали и отправили в ссылку; долгие годы писатель не мог общаться с ним. В столице Юрий пережил войну, приобретя на всю жизнь заикание – это произошло после того, как в соседний с родным домом Театр Вахтангова угодила немецкая фугасная бомба. После войны он окончил училище имени Гнесиных по классу контрабаса и несколько лет маялся, отчаиваясь найти работу по специальности. В это время в нём и зародилась мечта стать писателем – это была сугубо бытовая мечта нищего юноши о том месте, где его ждут благосостояние, комфорт и слава. Мечта пока ничем не была подкреплена – в его первых литературных опытах нет и тени того лирического дарования, которое впоследствии сделало имя Казакову.
Писателя впоследствии спрашивали, нужен ли был ему Литинститут. Он пожимал плечами, вспоминая, что первые студенческие годы только и делал, что читал, – по программе и без программы. И, цитирую, «пришёл к выводу, что лучше всех писали наши русские писатели. И <…> решил писать так же, как они». Но писать «так же» не имеет смысла, «так же» – это путь эпигонства; казаковское «так же» относится к фразе «лучше всех». Здесь началось по-хорошему спортивное состязание молодого Казакова с «великими», в котором он надеялся одержать победу. Было в этом что-то от хемингуэевской практики; Хемингуэй – один из кумиров оттепельного писательского поколения. Вообще, Казаков, вырастая в самобытного писателя, испытал несколько мощных влияний – в числе последовательно очаровывавших его авторов можно назвать Тургенева, Чехова, Хемингуэя, Бунина. Особенно последнего. «Легализованный» в конце 1950-х годов в СССР Бунин, буквально обрушившись на молодых писателей, похоронил не один писательский талант. Собственно, Буниным, с лёгкой руки Твардовского, увидевшего в казаковских рассказах слишком несамостоятельную и по-бунински изощрённую эксплуатацию запахов, попрекали Казакова до самой смерти: сначала – с некими основаниями, потом абсолютно необоснованно; зрелый Казаков претворил все испытанные влияния в совершенно самобытный художественный мир.
Сделать это Казакову помогла одна значительнейшая в его жизни встреча – с Русским Севером. Отправившись однажды туда на студенческую практику, он, по собственному его выражению, «пропал», смертельно влюбившись в эти места, сохранившие облик исторической, вечной России.
Не забудем, что происходило всё это в эпоху оттепели, когда все казавшиеся ещё совсем недавно незыблемыми нормативы подвергались критическому сомнению; это касалось и литературы – именно в годы оттепели многие молодые писатели пришли к пониманию несостоятельности соцреализма как единственно верного и возможного художественного метода. Рождались направления, школы, велись дискуссии – явные и неявные. Кто-то находил новые идеалы в городе с его мобильной языковой средой, кто-то – в среднерусской деревне, кто-то и вовсе на Западе… «Лирическая» проза, с которой обычно связывают Казакова, активно встраивалась в русскую литературную традицию, во многом возрождая её и наполняя актуальными смыслами. В какой-то момент горизонтальное движение Казакова (а он был, помимо всего прочего, неутомимым странником) преобразилось в вертикальное восхождение, в разговор о «последних вопросах». На этом пути Казакову и его единомышленникам пришлось вынести несколько страшных по своей беспощадности ударов социальной критики, но они мужественно отстаивали своё право писать так, как считали нужным: «Если чувствительность, глубокая и вместе с тем целомудренная, – вопрошал Казаков в одной из статей, – ностальгия по быстротекущему времени, музыкальность <…> чудесное преображение обыденного, обострённое внимание к природе, тончайшее чувство меры и подтекста <…> если эти достоинства, присущие лирической прозе, не замечать, то что же тогда замечать?»
Он обрёл свой голос, единственный и неповторимый; он теперь знал условия высокого писательства. «Беда, – цитирую ещё одно его интервью, – когда писатель не видит спрятанный свет слова, не чувствует его заглушённый запах, когда в ладонях слово не отогревается, не начинает дышать, жить…»
Отныне каждый его новый рассказ ждали с нетерпением. Следует отметить, что все важнейшие казаковские достижения так и остались в границах рассказа, это был наиболее органичный для его дарования жанр, и весь писательский опыт Казакова доказывает, что этот жанр ничуть не меньше романного, казаковские рассказы перевешивают на весах вечности многие современные «эпосы».
Но в конце 1960-х годов писатель неожиданно замолчал. Я могу привести некоторые высказанные в разное время предположения о причинах этого молчания. Говорили о том, что Казаков был писателем оттепели: кончилась оттепель с её бурными надеждами – кончился писатель Казаков. Говорили о его винопитии – у Казакова были проблемы с алкоголем. Говорили о его бытовой «маргинализации» – писатель всю жизнь мечтал о собственном большом и уютном доме на земле; получив солидное вознаграждение за мучительный перевод одной казахской эпопеи, он построил такой дом в подмосковном Абрамцево и осел там. Андрей Битов говорил о его молчании как «тексте», и этот тезис кажется мне наиболее глубоким.
Тем более что молчание всё-таки не было совершенно безнадёжным, ватным, в 1970-е годы Казаков написал два рассказа («Свечечка» и «Во сне ты горько плакал»), ставшие вершинными в его творчестве. Это история разлучения двух человеческих душ, отцовской и сыновней, и попытка нащупать пути их новой встречи. Тут много непрямых, ассоциативных наблюдений, много риторических вопросов, много неопределённых местоимений и того невыразимого, что можно только почувствовать, но никак не объяснить рационально. Быть может, в этих рассказах Казаков добрался до того места, где ничего никому уже не требовалось доказывать, а речь, пусть и самая гениальная, перестала быть необходимым условием жизни.
Закончу я цитатой – послушайте этот голос. Из рассказа «Осень в дубовых лесах»: двое влюблённых после счастливой ночи, проведённой в избушке на высоком берегу Оки, среди вековых дубов, утром выходят на улицу, в первый снег:
«Мы спустились вниз по снежному оврагу, оставляя за собой глубокие, сперва грязные, а потом чистые следы, и стали пить из родника возле срубленной осины. В неподвижном бочажке родника плотно опустились на дно почерневшие кленовые и дубовые листья, а срубленная осина пахла горько и холодно, и древесина на срубе была янтарной.
– Хорошо? – спросил я, посмотрев на неё, и изумился: глаза у неё были зелёные.
<…>
Мы шли тихо, молча, как в белом сне, в котором мы наконец были вместе».
Они останутся в этом белом сне уже навсегда – покуда жива будет русская литература.
Александр Панфилов,
кандидат филологических наук