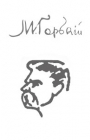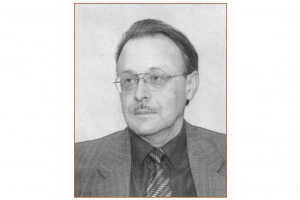«Точка кипения» (Апология Артура Шопенгауэра. Заметки дилетанта)
* * *
Что даёт мне, дилетанту в философии, право (или дерзость?!) на защиту Шопенгауэра?.. Даже профессионалы не сказали ещё своего слова. Может быть, они ждут публикаций произведений философа, чтобы не объяснять на пальцах, что такое хорошо и что такое плохо?..*
И всё же, если говорить о праве, то разве чувство справедливости нуждается в чьих-то санкциях, как и чувство долга, сострадания, любви?.. Но в данном случае дух мой укрепляет поэзия, так как именно при её счастливом содействии Шопенгауэр впервые появился в России. Формально первым переводчиком его у нас был Лев Николаевич Толстой, хотя он перевёл на русский язык всего несколько страниц, но с его благословения главный труд философа «Мир как воля и представление» перевёл Афанасий Фет.
«Знаете ли, что было для меня нынешнее лето? — писал Толстой 30 августа 1869 года Фету. — Неперестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения и читал и читаю (прочёл и Канта), и, верно, ни один студент в свой курс не учился так много и столь многого не узнавал, как я в нынешнее лето.
Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр гениальнейший из людей...
Я начал переводить его. Не возьмётесь ли и вы за перевод его?
Мы бы издали вместе. Читая его, мне непостижимо, каким образом может оставаться имя его неизвестно. Объяснение только одно, — то самое, которое он так часто повторяет, что, кроме идиотов, на свете почти никого нет».
Фетовский перевод был закончен лишь через 12 лет, к тому времени, когда в мировоззрении Толстого произошёл критический перелом с переоценкой взглядов на жизнь, и на искусство, и на религию. Теперь он уже ни практически, ни теоретически не мог принять философию Шопенгауэра, эту, как её позже назвали, «религию без Бога», органически отторгаемую толстовской системой социологизированного христианства, хотя по сути своей и не противоречащей христианской этике. Но тенденция — такая сволочная штука, для которой нет ничего святого, истинного, памятного, дружественного, если она, к несчастью, не вписывается в параметры завладевшей сердцем и умом идеи. Афанасий Фет в эти годы никакого своего учения не создавал и потому привязанность к Шопенгауэру сохранил до конца жизни, а перевод он сделал такой, что Андрей Белый признавался однажды, как после фетовского не мог смириться с новым переводом Ю. Айхенвальда, появившимся в начале XX века. Родство Фета с Шопенгауэром, видимо, в значительной мере — эстетическое, ведь для обоих искусство, поэзия являлись своеобразным средством освобождения через прекрасное от смертной плоти, от земных забот, а также тою точкой, тем местом, где мы снова (пока временно!) воссоединяемся с оставленной нами вечностью.
Как художник Фет ценил в Шопенгауэре не только гениального мыслителя, но и поэта, гениального мастера слова, мастера афоризма, блестящего художественного образа, человека уникальной эрудиции и культуры. Философ издевался над Фихте, Шеллингом и Гегелем за их, по его мнению, манеру знакомиться с мыслителями древности не из первых рук, а по цитатам и переводам. (Вот назидание всем нам, дилетантам!). Не знающих латинский язык он считал неучами. Писателей классического мира изучал в оригинале. Платон, Аристотель, Сенека занимали почётное место в кругу его собеседников. Владение языками было столь совершенным, что он переводил художественную литературу с французского, итальянского, испанского... Но все попытки предложить эти переводы для публикации, к сожалению, были безуспешными. Вообще, обвиняющие Шопенгауэра в мрачном характере, не учитывают то равнодушие и высокомерие, которыми окружили деятельность философа его современники. И с какой верой в себя, с каким терпением пробивал он в печать свои труды, оставшиеся потом нераспроданными. Какая оглушающая стена молчания оскорбительно возвышалась над всеми его произведениями! Не услышать слова сочувствия, понимания, зная цену своему труду, это, знаете ли, и железный человек может стать мизантропом. Не зря же и современникам, и потомкам Шопенгауэр воздал должное, оставив весьма раздражённые, накипевшие в нём безжалостные характеристики: «Того, кто написал великое, бессмертное произведение, приём, оказанный этому произведению публикой, и суждения о нём критики — так же мало способны огорчить или взволновать, как, например, брань и оскорбления сумасшедших способны оскорбить психически здорового человека, расхаживающего по больнице для умалишённых, предполагая, конечно, что человек этот имеет надлежащее понятие о том, где именно он находится».
Но в том-то и подлость судьбы, что — огорчают, волнуют, а его самого (как Чаадаева!) — объявляют сумасшедшим!..
* * *
В 1988 году официальная наша культура, следуя своей семидесятилетней традиции, проигнорировала событие, которое не осталось без внимания в цивилизованном мире. Только журнал «Вопросы философии» в февральском выпуске откликнулся сдержанно-уважительной статьёй А. А. Чанышева на 200-летие со дня рождения великого немецкого философа Артура Шопенгауэра (1788—1860). И слава Богу, у журнала была возможность пригласить умного автора, который хотя и тяжёлым академическим языком, но без вульгарного классового подхода попытался дать представление об этике философа, никому, правда, кроме специалистов, не известного в нашей «самой читающей» стране, так как после октябрьского переворота в 1917 году — не издавался новой властью. Читать же дореволюционные издания оставалось недолго, ибо уже в 1923 году Шопенгауэр попал в чёрный инквизиторский список, составленный Н. К. Крупской, по которому его книги, наряду с книгами Паскаля, с Библией, запрещались для дальнейшего распространения, изымались из интеллектуального оборота. Фактически это аутодафе на многие десятилетия превратило крупнейших мыслителей в еретиков, в костёр под которыми свою вязанку дров бросала каждая выслужившаяся перед властью шавка и, увы, каждая наивная обманутая душа... Но последним хотя бы простительно, они, благодаря усердию верной спутницы «кремлёвского мечтателя», не читали подобную литературу, сохранив в девственном состоянии своё невежество, а вот профессорам и учёным уже не выхватить из остывающего исторического огня своих поленьев... Они успешно вписались в рамку того портрета, который был приуготовлен для их особ Шопенгауэром, назвавшим как-то книги зеркалом: «Когда осёл глядит в него, он не может увидеть в нём ангела...» А в книги Шопенгауэра вглядывались (и слишком пристально!) весьма заметные фигуры, но, как и полагается, каждый узрел в них то, чего не мог не узреть.