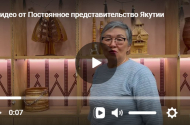Алексей Варламов: «Одного Бородина я «привел» к другому Бородину»

14 апреля 2022 в РАМТе выходит главная премьера сезона – спектакль Алексея Бородина «Душа моя Павел» по роману Алексея Варламова. О стремительном взрослении первокурсника из закрытого городка – советского человека по системе ценностей, которая уже в 1980-м была проигранной. Это молодой человек осознает, попав на «картошку» в совхоз – и впервые столкнувшись с реальностью. Освобождение от иллюзий, «умный, зрячий патриотизм», путь от Бородина-писателя к Бородину-режиссеру – об этом автор романа, лауреат Национальной литературной премии «Большая книга» и ректор Литинститута рассказал «Театралу».
– Алексей Николаевич, какие отношения вас связывают с РАМТом? Вы их постоянный зритель?
– Не могу сказать, что я постоянный зритель, но, конечно, видел какие-то спектакли. А когда познакомился с Алексеем Бородиным, стал бывать чаще. Кроме того, с Молодежным театром очень дружил прежний ректор Литинститута Сергей Есин, водил студентов на «Берег утопии» и не только. Так что у наших отношений была своя предыстория. Ну а потом я подарил Алексею Владимировичу свой роман «Душа моя Павел», он его прочитал и предложил поставить, чему я был несказанно рад. Так всё и завертелось.
– Какие вам видятся сложности в адаптации текста? Что в инсценировке и в самой сценической истории может стать проблемной зоной?
– Надо сразу сказать, что инсценировкой занимался не я, а молодой драматург Полина Бабушкина. Она уже инсценировала раньше один из моих рассказов для постановки в Архангельском драматическом театре (спектакль «Тараканы» был номинирован на «Золотую маску» и приезжал в Москву – «Т»). Бородин эту работу видел и предложил Полине сделать инсценировку романа. Я с чем-то соглашался, с чем-то – нет, но решил, что доверюсь профессионалам. Полина человек театральный, а я в театре всего лишь благодарный зритель.
В целом получилось, по-моему, очень хорошо: основные идеи, образы, конфликты в пьесе есть. И постановка живая, музыкальная, атмосферная. Мне кажется, важно, чтобы зрители – а большинство книгу вряд ли читали – окунулись в атмосферу 80-х, и она на сцене есть. А кроме того, это действительно молодежный спектакль. Бородин сумел показать себя молодым, что для меня было, пожалуй, самым неожиданным.
– Для Бородина встал вопрос, как переносить на сцену мистическую часть, отказываться от которой нельзя: она может оказаться неубедительной, но является определяющей для спектакля в целом. А в романе зачем дано Павлу это путешествие между жизнью и смертью – через всю страну?
– Меня критиковали за эту мистику, может быть, даже обоснованно. Но идея романа «Душа моя Павел» – это идея взросления, инициации, потери невинности, стремительного постижения самых разных сторон жизни. Мистический опыт – тоже часть инициации, самая важная или не самая – вопрос спорный, но мой герой должен и через это пройти. Павел Непомилуев – советский человек, материалист, атеист по воспитанию, по системе ценностей, и поскольку она, эта система, подвергается в романе испытанию и проверяется на прочность, то мистику можно интерпретировать как излом: либо парень уцелеет, либо сгинет. Он уцелел, победил. Он вообще по натуре победитель.
<...>
– Писатель Евгений Водолазкин сравнил историю Павла со средневековой историей царевича Иосафа, отгороженного от мира стеной. Почему напрашивается эта параллель?
– Если говорить о предыстории моего романа, то он отчасти автобиографический, потому что я описываю университет, в котором учился, и «картошку», на которую сразу же попал. Нас, первокурсников, вместо светлых аудиторий отправили в совхоз. Но в качестве главного героя я взял не себя, не своих интеллектуальных друзей, а парня, который от всех от нас был бесконечно далек. Точнее даже не так. Он сам пришел, всех отодвинул и оказался в центре. И я могу объяснить, почему. Для всех университет был мощным рывком, но его рост стал особенным, потому что точка старта у него была намного ниже. Неслучайно в романе так важен момент с проходным баллом. Павел набрал меньше всех. Ему надо догонять остальных. И эта история – как он догонял, что у него получалось, а что нет – мне показалась весьма любопытной.
Но дело даже не в том, что у Павла был прототип, а в том, что на филологическом факультете МГУ этот парень слыл белой вороной. Все-таки это была интеллигентская среда. Не то чтобы сильно оппозиционная или диссидентская. Но представьте себе, 1980-й год, когда всё вокруг советское, а веры в советские идеалы у большинства уже не осталось. Да, мы были комсомольцами, ходили на субботники, платили взносы, потому что иначе существовать в университете было невозможно. Но во все эти вещи не верили, а он – верил. И вот откуда взялся такой «мамонт», «реликт»? Он не мог тогда этого объяснить, и только много позднее я понял, в чем было дело.
Закрытые города, откуда приехал мой герой, я немного знал, потому что мой родной дядька жил в одном из них. Помню, как меня поразило это место, абсолютно не похожее на всё, что я видел в Москве, в своем рабочем районе на Автозаводской. Другой ритм жизни. Другие люди. Другие магазины: ни дефицита, ни очередей. Потом уже я бывал в разных секретных городах: и в Сарове, и в Железногорске. Конечно, мне было интересно, как люди там себя ощущали, потому что у них, действительно, был построен социализм, когда «от каждого по способностям – каждому по труду». Они хорошо зарабатывали, но и работали много, крепили обороноспособность страны, и это не идеологический штамп, но – правда.
Я, например, еще будучи ребенком, видел, что в школе, по телевизору нам рассказывают и показывают одно, а в реальной жизни – всё совсем другое. В закрытых же городах такого противоречия не было. И мой герой, действительно, как царевич Иоасаф, живет заколдованном царстве, в каком-то монастыре, в Касталии, если вспомнить «Игру в бисер». А дальше его выбрасывает в реальную советскую жизнь, и не куда-нибудь, а в совхоз. Мы-то были ошарашены, увидев эту грязь, воровство, бездорожье, пустые магазины, а он вообще не понимал, куда попал. И конфликт в душе человека, который привык жить в одном измерении, а оказался в совершенно ином – и вынужден самому себе объяснить, как к этому относиться, как с этим быть и почему все так происходит – этот конфликт в романе ключевой. Тут мне хочется вспомнить еще одного замечательного человека.
Так сложилось, что в моей жизни есть два Бородина: один – Алексей Владимирович, худрук РАМТа, а другой – Леонид Иванович, писатель. Однофамильцы и ровесники. Так вот, у второго Бородина была очень интересная судьба. Он вырос на Кругобайкальской железной дороге, на Транссибе, где пути шли тогда вдоль Байкала, в железнодорожном посёлке, который тоже чем-то был похож на закрытый город. Отдельный мир, примерно такой, в каком рос мой Павлик (я, кстати говоря, когда писал роман, про Леонида Ивановича много думал, и есть мистика в том, что потом одного Бородина я «привел» к другому Бородину). Жил мальчик и думал, что вся страна так живет: люди делают важное дело, строят социализм, любят Сталина, Советский Союз. А дальше он заканчивает школу и как идейный советский юноша поступает в милицейскую школу, а затем их отправляют на практику в Елабугу – и там он видит совсем другую жизнь большой страны. И это так поразило его, так возмутило его чистую душу, что он стал диссидентом, убежденным антисоветчиком. Пришел к выводу, что главный враг России – это советская власть, с которой надо бороться вооруженным путем. Вступил в антисоветскую боевую группу, которая готовила теракт против КГБ. Потом их раскрыли, был суд, расстрельная статья, но расстрел заменили долгим сроком.
При этом Бородин был из диссидентов-русофилов, не из тех, кого опекал Запад. Их и КГБ травило, и Запад не признавал за своих – им приходилось особенно тяжело. Он был сильный, мужественный человек. Писал дивные книги, когда сидел, продолжил писать, когда вышел на свободу. Мы познакомились уже в 90-е годы. Я вспомнил его сейчас потому, что столкновение убежденного человека с действительностью может иметь разные последствия. И в романе, когда мой герой спорит со студентами о советском строе, один из них неслучайно говорит: «Ты, смотри, поосторожнее, а то сейчас свихнешься и будешь потом антисоветские листовки разбрасывать». Что ж, и такое было вполне возможно: советский Павел мог превратиться в антисоветского Савла. Но мне представляется, что он скорее будет отстаивать то, в чем был воспитан. Чувство Родины – вот что для него очень важно. Но это умный, зрячий патриотизм, драгоценный во все времена.
<...>
– Роман и спектакль «Душа моя Павел», от каких иллюзий он может избавить новое постсоветское поколение, тех, кто родился уже после распада СССР?
– Есть в романе один важный момент, который в спектакль, правда, не вошел. Павлик оказывается меж двух огней, между двумя группами: условными либералами и условными идеологами. Есть люди, которые недовольны советским строем и высмеивают советскую идеологию. И есть люди, которые вообще-то призваны ее защищать. Это их профессия. Так вот либералы активны, борются, пусть и на словах, за свое, а идеологи не делают ничего – им все равно. (Они ждут, когда все рухнет и можно будет спокойно заняться приватизацией). И беда Павлика заключается в том, что он действительно одинок. Основная черта позднего советского времени, которая страну и погубила – тотальный пофигизм, равнодушие, разочарование. Неслучайно в августе 1991 года, когда был шанс сохранить советское правление, никто не вышел защищать несчастный ГКЧП, а Ельцина поддержать вышли. Пусть вышедших было не очень много, но они оказались активными и сделали историю.
– Это советская власть выстроила «такую систему, при которой каждый грузин знает, что он грузин, татарин – что он татарин, и только русский не знает, что он русский»? Эта проблема с национальной идентичностью, она и сегодня есть?
– Конечно, и я думаю, что здесь исторический вызов нашему государству. Нет в мире другой страны, где было бы столько языков, народов, культур и их взаимодействия. Российская империя и Советский Союз не стали котлом, в котором все национальное переплавилось и обезличилось. Все равно каждая культура стремилась сохранить свое лицо. Но русская культура и русская литература – самая большая – оказалось при этом немножко отстраненной…
О том, что я русский, например, я узнал, уже когда поступил в университет. В школе мы знали: это армянка, а это грузин. Один про себя с вызовом говорил: я еврей. Ладно. А все остальные кто? Советские. Сейчас я даже не знаю, хорошо это или плохо. Но точно могу сказать, что между нами не было никаких конфликтов по национальному признаку. Ну, трения, шероховатости могли быть везде. А как только Советский Союз стал распадаться, все эти конфликты посыпались. Можно ли было их избежать? Можно ли было пойти по другому пути?
Это действительно серьезная проблема и не только в России. Я думаю, она требует безмерного уважения одной национальной культуры к другой национальной культуре, одного языка к другому языку. И, несомненно, это уважение надо воспитывать. Советский опыт был интересен тем, что он сумел пригасить, снизить накал национальных противоречий. Но зато потом они вырвались с новой силой. Значит ли это, что советский путь был и здесь тупиковый, что мы только сжимали пружину, которая потом сильнее выстрелила? Или были другие причины? Не знаю… У меня самого вопросов больше, чем ответов.
– Вы говорили, что в романе «Душа моя Павел» «хотели понять советскую систему и… сказать ей спасибо!» За что же ее можно благодарить?
– Когда я начал писать роман, с удивлением заметил, что те советские реалии, которые раньше вызывали неприязнь и раздражение, сейчас вызывают, скорее, симпатию. Та же картошка. Тогда, в 1980-м, я действительно негодовал: «Какого черта студентов посылают на поле вместо лекций?!» А сейчас думаю: «Ну, и что плохого? Жизненный опыт получили». Я как ректор Литинститута отправлял бы своих студентов на картошку, просто чтобы они жизнь узнали, чтобы они по-писательски по грядкам походили, землю пощупали. Думаю, им – да и вообще всем – это нужно.
Или вот лекции по истории КПСС. Да, это было насилие, «идеологическая дубинка». Но сегодняшние-то студенты вообще ничего не знают. Например, я рассказываю им про Кронштадтское восстание. Это важный момент в истории страны и в истории русской литературы. Он важен для понимания романа Андрея Платонова «Чевенгур», например. Мы это знали, нынешние – нет. Сегодня образование лишено глубокого гуманитарного начала, которое все-таки было основательным в советское время. Это, на мой взгляд, то хорошее, что, в принципе, можно было бы оттуда взять.
– Это единственное, за что вы благодарны?
– За что я еще благодарен? Мы были очень голодными: нам не хватало книг, не хватало фильмов и спектаклей, не хватало музыки. Мы всё это жадно искали и очень радовались, когда находили, а сегодня этой жадности нет. Все доступно. Помню, например, как я читал роман Пастернака «Доктор Живаго» – с невероятным романтическим воодушевлением и подъемом. Это была первая запрещенная, изданная на Западе книга, которая попала в мои руки. Или я помню, как стремился в Театр на Таганке, где голова шла кругом от их смелости, как болел желанием увидеть «Зеркало» Андрея Тарковского, пока, наконец, не добрался до заштатного кинотеатра, через всю Москву, на единственный сеанс. Думаю, что сегодня молодым людям довольно трудно испытать такое ошеломляющее впечатление от книги, спектакля, фильма. Эта жажда, наверное, уже не вернется. Но я благодарен советскому времени за то, что оно своей скудостью делало нас богатыми.