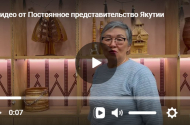Геннадий Красников: «В сегодняшней литературе мне не хватает протопопа Аввакума»

Поэт не имеет возраста перед Вечностью; судьба скрупулезно отмеривает ему столько времени, сколько нужно для исполнения его суверенного слова. И потому сегодня хотелось бы говорить с поэтом, мастером Литературного института Геннадием Николаевичем Красниковым исключительно о поэзии, и ни о чём другом.
- В тех садах, в тех домах и глухих коридорах,
в тех уральских бараках (поклонимся им!),
где в раздорах и драках взрывались, как порох,
где смеялись и пели, где был ты своим...
– Геннадий Николаевич, поэты часто идут «спиной вперёд», постоянно оборачиваясь из настоящего к ушедшему. Что вспоминается вам в эти дни, какие начала, клочки генеалогии? С чего началась любовь к поэтической словесности, уж не с тех ли послевоенных песен?
– Ваш вопрос, тем более, что он всё-таки связан с возрастом, натолкнул меня на казалось бы простую, но очень существенную мысль о том, что вообще жизнь человека – это постоянное уменьшение его личного будущего при одновременном увеличивающемся разрастании его прошлого, в склад памяти, который иногда превращается в ящик Пандоры, столько успевает человек всякого накопить, и не только хорошего.
В том стихотворении, отрывок из которого вы привели, для меня более символичными, загадочными, определяющими, словно ключ к будущей Судьбе, являются другие строки:
В той забытой стране, в том году небогатом
всюду был ты своим, отрок света и тьмы,
в той забытой стране под безбожным плакатом
Бог тебя уберёг от сумы и тюрьмы...
Сам не понимаю, откуда возник здесь этот «отрок света и тьмы», кем это продиктовано когда пишется стихотворение… Но таким «отроком света и тьмы» я действительно был тогда, в послевоенной бедной стране, «под безбожным плакатом»…
Простите, что приходиться цитировать себя, чего не люблю, но поскольку речь о начале, о «клочках генеалогии», то поневоле обращаешься к единственно правдивому источнику, что подтверждается и словами Есенина – «моя биография – в моих стихах». Причём, биография не только (и не столько даже!) внешняя, а таинственная, не до конца понятная и объяснимая и самому автору, ибо неизвестно, чего в ней больше – физики или метафизики, реального или ирреального… Поскольку слово захватывает сразу и профанное и сакральное время. Так, ещё в первой книге у меня появляется тот самый мальчик, более точное определение которого придёт позже:
Тихий мальчик с грустными глазами
о моём приезде узнаёт,
по утрам заходит: «Я – за вами!» -
и меня по городу ведёт.Ах, какой за городом шиповник,
как шумят здесь птицы к сентябрю...
«Помните?» – он говорит. – «Не помню!» -
«Знаете?» – «Не знаю...» – говорю.И легко мне с ним и тяжело мне
родиной метельною идти,
я дороги в прошлое не помню
и не знаю из него пути.
Что здесь – психология творчества или мистика творчества, независящая от рацио автора? Или то, как я давно определил для себя смысл поэзии: всё явное она превращает в тайное, а тайное – в явное…
Известно изумительное по трогательности воспоминание Лермонтова. «Когда я был трёх лет, – говорит он, – то была песня, от которой я плакал... Её певала мне покойная мать». Думаю, что именно в тот благословенный миг, с этой неведомой нам материнской песней, с этими слезами, предчувствующими и ранее сиротство, и все предстоящие испытания, в мир явился новый поэт.
Не сравнивая таланты, скажу, однако, что у каждого истинного поэта был в жизни такой миг внутреннего потрясения, преображения, вроде превращения Савла в Павла…
– Да, может быть, две-три детали
припомнит каждый, но они
на ход времён не повлияли,
не подняли престиж страны.
– Сколько себя помню, постоянно боялся словесной выспренности, и потому цеплялся за жёсткую акмеистическую привязку к деталям бытия, знакам времени, которые говорят за себя сами. Не в них ли и заключается смысл поэтического ремесла? Или оно – в обобщении деталей мыслью, собирающей их в гармоническое единство звука и смысла, и что из них для вас первичнее?
– Вы, Сергей Сергеевич, поэт и блестящий знаток русской классической и современной поэзии, конечно, знаете гениальное стихотворение Вячеслава Иванова «Русский ум»:
Своеначальный, жадный ум,-
Как пламень, русский ум опасен
Так он неудержим, так ясен,
Так весел он — и так угрюм.Подобный стрелке неуклонной,
Он видит полюс в зыбь и муть,
Он в жизнь от грёзы отвлечённой
Пугливой воле кажет путь.Как чрез туманы взор орлиный
Обслеживает прах долины,
Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле.
По-моему, оно полностью соответствует вашей формуле про «обобщение деталей мыслью, собирающей их в гармоническое единство звука». Здесь мы находим и «акмеистическую привязку к деталям бытия» с их «стрелкой неуклонной», которая «видит полюс в зыбь и муть», и «прах долины», но и то самое свойственное символистам «гармоническое единство звука» с их «грёзой отвлечённой», с «мистической мглой», в результате какового синтеза русский ум «здраво мыслит о земле, В мистической купаясь мгле»… Но в ваших собственных стихах, что особенно видно в жёсткой, даже суровой, книге «Зелёнка», так называемые акмеистические «детали бытия» приобретают черты символические, может быть, даже вопреки воле автора. Также как у основателя акмеистической школы в русской поэзии Николая Гумилёва, когда он говорит: «Но святой Георгий тронул дважды пулями не тронутую грудь», повествуя и о том, что на его груди было два реальных Георгиевских креста, и о спасительной длани святого, коснувшегося воинской груди поэта. Мне ближе и понятней именно такой синтез, который лучше помогает «здраво мыслить о земле».
А приведённые вами строчки, где сказано о «двух-трёх деталях», это из моего раннего увлечения поэзией Евгения Винокурова, с которым мы были знакомы много лет и чью поэзию я высоко ценю; с его предисловием вышла моя первая столичная подборка стихотворений, он давал мне рекомендацию в союз писателей.
Винокуров когда-то приводил сказанные ему в начале творчества слова Пастернака о том, что поэзию нужно искать под ногами, в траве, на земле… В его стихах, участника войны, было много подробного фронтового быта, послевоенных бытовых, почти прозаических, деталей, узнаваемых реалистичных примет времени, эпохи, что и мне, человеку другого поколения, было близко, знакомо, обостряло и моё личное зрение, вдохновляло на поиск собственных открытий, поэтического языка в том сложном человеческом общежитии, доверчивой и открытой малой частью которого я был.
Но не всем нравился этот принципиально подчёркнутый бытовизм философских стихов. Бытует легенда, будто Ахматова когда-то (на мой взгляд, скоропалительно, не задумываясь), обронила: «Винокуров поэт честный – но это поэт без тайны». Как истинный крупный поэт и философ, которого по строчке его стихов называли «упорствующий до предела» (без продолжения: «почти всегда бывает прав»!), Винокуров прекрасно знал, в чём тайна и сила его стихов, откуда на его бытовых деталях, мелочах, жестах возникает сияние вечности бытия, о чём и говорит он с сократовской парадоксальностью в одном из лучших своих стихотворений:
Простите мне, стихи. Хозяйственного мыла
я приобрёл и леденцов на вес
за вас, пришедшие мне из другого мира,
ниспосланные мне, так, ни за что, с небес.
– Пятидесятые идут…
– Вы застали послевоенную пору целостно и неотъемлемо от себя самого. Чем пахло тогда в стране, что витало в ней, кроме горького дыма разрухи и скорби по погибшим? Надежда на то, что это последняя война, или нечто большее – не тогда ли началось подспудное и до поры невидимое возрождение веры, установление извечных координат русского бытия, перевёрнутых с ног на голову революционной риторикой?
– Быть может, вы не поверите, но при всей бедности, неустроенности, безотцовщины большинства из моего поколения, – у меня, да и у моих ровесников, было счастливое детство. Когда я вижу фильмы, скажем, Алексея Германа, где в тёмных, мрачных тонах, в нагнетаемом депрессивном настроении показывают то период, мне кажется, что мы жили с ним в разном времени и в разных странах…
В моём рабочем посёлке (Максай) на Южном Урале, окружённом степью и заводами с дымящимися трубами, с бараками, где жили и работали люди всех национальностей, только что пережившие все испытания войны, среди которых были фронтовики, за тысячи километров от столицы, от библиотек и театров, от писательских детей, становящихся как по мановению волшебной палочки режиссёрами, – в отличие от того интеллигентского нагнетаемого экранного мрака и уныния было светло, дружно, застольно, песенно, порою исступленно буйно с размахиванием монтажными цепями в пьяных «чайнах»… Всё моё детство наполнено ярким солнцем, освещающим бедные сараи, бараки, жёлтую глину под ногами, маленький базарчик с привязанным к столбу серым ишачком с повозкой из соседней казахской степи… Люди работали, вставали по заводскому гудку, набивались битком в клуб на индийские и любые советские фильмы, дружно отмечали советские праздники вперемешку с Пасхой, с Красной горкой, с Троицей… Собирались многолюдно и тесно за небогатым столом, ладно и красиво пели народные песни опять же вперемешку с советскими, пели и плакали, плакали и пели… Кажется, именно с этими песнями и слезами на миру, где и смерть, и скорбь красна, выдыхалась их боль по погибшим, по искалеченной войною молодости, по родным местам и гнёздам, откуда безжалостно сорвала их война, разрушив их планы на будущую счастливую жизнь…
Знаете, нам, мальчишкам, лично мне, пришлось нечаянно оказываться в роли Фомы неверующего, влагавшего персты в святые раны Христа?.. Случалось, на гулянках, где рядом со взрослыми обычно вертелись дети, – подвыпившие фронтовики, совсем ещё ведь молодые тогда мужики, многие из которых были ранены, искалечены, – начиная рассказывать о войне и своих ранениях, для достоверности настаивали потрогать следы их ран. Помню, как фронтовик берёт мою руку и подносит её к месту ранения. Не забыть, как страшно было касаться пальцем глубокой вмятины на голове, где под кожей не было кости, как я касался перебитого осколком плеча, с вырванной частью мышцы, а фронтовик рассказывает как на операционном столе в госпитале, крича от боли, материт бедного хирурга, собравшегося ампутировать безнадёжную, почерневшую от гангрены, руку, матюгами заставив его сделать невозможное и сохранить изуродованную руку… Эти отчаянные, весёлые и плачущие захмелевшие мужики прошли свою Голгофу во имя Родины. Это они, это солдатские вдовы и матери погибших на войне являли собой извечное страдающее и непобедимое русское бытие, невидимый постороннему взгляду Столп и утверждение истины, как безусловную основу для будущего возрождения Православной России.
– Вы отдали себя на заклание сложнейшему жанру – составлению поэтических антологий. Как известно, что бы ты ни делал в поэтической среде, больше приобретаешь недругов, чем друзей…Антологии, их мозаичность – как полно отображается в ней дух времени, и какими принципами вы руководствуетесь при отборе и авторов, и стихотворений? Держите ли в уме и памяти постоянно некую «общую цель» обширного полотна?
– Да, вы правы. Даже за несколько недель до своего ухода, Евгений Евтушенко, звоня мне из Америки, говорил: «Мы с тобой единственные антологисты, никто, кроме нас с тобой, не составил столько серьёзных антологий». Оторванный от России и современного литературного процесса, нередко просил он меня помочь ему с подбором авторов и стихов, не всегда, правда, соглашаясь с моими рекомендациями.
Я люблю приводить на эту тему пример с Александром Блоком. Когда-то он готовил к изданию «портативный» сборник стихов Пушкина и долго мучился, чтó отобрать, с чего начать – всё было жалко что-нибудь пропустить. И всё же решил: «Начнём брать только от "Редеет облаков летучая гряда"». «Почему?» – спросили Блока. – «Оно первое, от которого подступают слёзы».
Разумеется, данный принцип как знак высокой художественности присутствует в отборе произведений и авторов. Естественно, что составитель полагается на собственный эстетический вкус, на своё представление о том, что есть Поэзия. Объективности в широком смысле тут не может быть по определению. Такие издания справедливо считаются авторскими, не случайно на обложке антологий Евтушенко, которые я считаю излишне субъективными и конъюнктурно политизированными под западного читателя, стоит его имя. В том и заключается причина обид и недовольствий в основном тех, кто не попал в книгу либо попал не с теми и не в том количестве стихами. О создании каждой антологии и связанных с этим приключений и злоключений можно было бы написать настоящие детективные истории.
Но даже если книга тематическая, например, антология военной поэзии, она всё равно имеет концептуальную авторскую основу (о таком концептуальном подходе я сказал выше связи с Евтушенко).
Например, после выхода составленной мною Антологии ХХI века, первого так называемого «нулевого» десятилетия, в прессе меня обвинили за излишнюю «русскость» в подборе стихов и имён, хотя в моей книге предельно широко представлены все (даже не близкие мне) эстетические и формальные школы, и даже идейные направления. Но в статье о выходе русской поэзии «Из немоты и молчания», предваряя книгу, я вполне открытым текстом выразил свою авторскую позицию, представив концепцию книги, или, говоря вашими словами, «некую “общую цель” обширного полотна?»:
«Антология поэзии ХХI века является эвристическим проектом, попыткой определения разновекторности путей; это своего рода предварительный прогноз или некий эскиз, некое задание на будущее, утверждение верстовых столбов на манер Петра Первого: “В России нет дорог, есть токмо направления”. Это своего рода РУССКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ поэзии, а уж какими дорогами оно пройдёт, нам не дано предугадать, многое будет зависеть от личностей, от исторического места России в мире, и от того, какую судьбу выберет себе народ. Как совершенно справедливо говорил гениальный К. Леонтьев, словно провидя духовным зрением современную нашу тягу угнаться за прогрессом и цивилизацией: “Чем знаменита, чем прекрасна нация? — Не одними железными дорогами и фабриками, не всемiрно-удобными учреждениями. — Лучшее украшение нации — лица, богатые дарованиями и самобытностью. — Лица даровитые и самобытные не могут быть без деятельности творчества; — когда есть лица, есть и произведения, есть деятельность всякого рода”».
– Мы дружили с фронтовиками,
с настоящими мужиками,
быть почётно учениками
у великих отцов своих –
тех, что скрыты уже веками
под осыпавшимися венками,
под летящими вслед плевками
на святые могилы их.
– И еще один ваш крест – поэты-фронтовики. Прошедшие крещение огнём и сталью и сегодня воспринимаются лучшими, очищенными от пошлости и ужасом, и причастием к высшей правде. Как вы думаете, может ли когда-нибудь эта планка быть превышена? И если может, чем? Новой мировой войной и новым поколением ее героев, или подлинная поэзия – пусть иная, но такая же трепещущая, жаждущая истины – может родиться и «просто так», вне исторического контекста?
– Я считаю святым поколение фронтовиков. Очень многих я знал лично благодаря тому, что работал редактором в альманахе «Поэзия» вместе с Николаем Константиновичем Старшиновым, прекрасным поэтом, представителем этого поколения, самым светлым и необыкновенным человеком из всех, кого мне посчастливилось встретить в жизни. Они были учителями моего поколения, не теоретиками, а по сути – отцами, под защитой и нравственной шкалой ценностей которых мы жили и входили в литературу.
Как составитель антологий русской поэзии разных исторических эпох, я уже давно заметил, что в нашей литературе (так сложилась судьба России!) есть только три вида поэзии: предвоенная, военная и послевоенная… Какой период мы переживаем сегодня и может ли из него возникнуть поэзия «трепещущая, жаждущая истины»? Может быть ответ на это даст великое стихотворение Аполлона Майкова, написанное 150 лет назад, не потерявшее своей актуальности и сегодня:
Перед войной
«По местам! по местам!» – грозный оклик идёт…
Поднялся старый наш воевода,
Поднялся и над Русью летит и зовёт;
И все чуют – идёт, знать, невзгода!«По местам! по местам!» – воевода зовёт:
«Всяк радей государеву делу –
Веру тверду держи, совесть чисту и белу,
Ибо час настаёт, настаёт!..Враг могуч и хитёр! по местам, по местам!
И настороже око и ухо:
Бой повсюду пойдёт, по земле, по морям,
И в невидимой области духа».1870
– Вы влюблены в огромное множество коллег по цеху, можете цитировать их, припоминая огромное множество значимых черт их поэтики. Скажите же, отчего под тяжестью этих двух крестов вы, яркий, безутешный, так часто забывали о себе? Казалось ли и кажется ли вам теперь, что люди достойны большего, чем вы сами? В чём корни вашего бескорыстия?
– Вернусь к теме выбора авторов. Недавно я расстался с одним изданием, в котором какое-то время принимал участие в качестве составителя. На прощание я написал его издателям: «Блатными делами занимайтесь сами, печатая нужных людей, я предлагаю ВСЕГДА ненужных никому, кроме самой поэзии». Тем же занимается в Перми замечательный поэт, мой товарищ, Юрий Беликов, годами собирая и издавая никому неизвестных талантливых людей в сборниках «Приют неизвестных поэтов (Дикороссы)».
В определённом смысле тут ещё и школа Старшинова, который всю жизнь занимался собиранием и поддержкой талантливых поэтов – молодых и немолодых, издавая большое количество антологий, коллективных сборников. Надо сказать, что в 80-е годы он составил и добился выпуска первой антологии молодых в самом престижном издательстве страны в «Худлите», где печатались только современные классики.
В настоящее время я завершаю работу над составлением антологии поэзии «восьмидесятников», моего поколения. Для понимающих и настоящих ценителей поэзии (не для клеветников России!), это будет настоящее потрясение. Да не обидятся на меня самые громкие и знаменитые «шестидесятники», но их поверхностная, во многом театральная, ораторская, сытая, пахнущая французскими лосьонами, угождающая злобе дня и вкусам стадионной публики, поэзия (прародительница полу-графоманской рок-поэзии) – померкнет на фоне той мощной, эстетически разнообразной, страдающей, трагической, исторически мыслящей, корневой русской поэзии, с трудом пробивавшей себе из бараков, из бесприютности, из нищеты, непризнанности дорогу в литературу в конце 70-х, в 80-е и более поздние годы прошлого и наступившего века. И можно ли сказать после этого, что я забываю о себе рядом с этим мощным поэтическим «облаком свидетелей» моего поколения? Ведь и я тоже мог оказаться среди тех, кому не протянули руку помощи, кого не поддержали словом сочувствия и приветствия. Я только возвращаю долг за то, что мне в каком-то смысле повезло больше чем неизвестным поэтам.
– В нём ни одна беда не отозвалась болью,
ни город, ни очаг чужой – ему не свят,
и мальчики Чечни, им брошенные в бойню,
в пустых его глазах возмездьем не стоят.
– Наша история последних десятилетий – порождение не только власти, но и нашего общего, совокупного падения в бездну. Почему так легко падать и так тяжко стремиться ввысь из тех придорожных ям, куда завозят нацию крикливые и наглые ямщики?
– Это историософский вопрос, на который веками ищет ответы русская литература, русские религиозные философы. Неслучайно Фёдор Тютчев напоминает нам о Судьбе России:
Удручённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.
Ответить на ваш вопрос всё равно что ответить на воздыхание народной песни: «Что ты, белая берёза, ветра нет, а ты шумишь, ретиво моё сердечко, горя нет, а ты болишь?» – почему шумит берёза без ветра, болит сердце без видимого горя?.. Почему мы поём: «Ой, налетели ветры злые, Да с восточной стороны, И сорвали чёрну шапку С моей буйной головы»?.. Есть в этом тайна, промысел Божий. Ещё Сенека писал, что вокруг философа жалкая горстка молодых людей, а стадионы переполнены кричащей молодёжью. Люди по природе своей сами готовы падать. Но в отличие от Запада, в России после каждого падения мы страдаем и тяжко, с трудом поднимаясь, жаждем слёз покаяния. В этом, быть может, наша надежда на спасение в будущем. Мы, как никто, умеем объединяться силой и духом перед лицом смертельной опасности для нашей Родины.
Не забудем, как русские писатели Сергей Залыгин, Василий Белов, Валентин Распутин, академик Михаил Лемешев и другие, когда нависла смертельная угроза над Россией в связи с губительной идеей так называемого «поворота Северных рек» в среднеазиатские республики, грозящей невосполнимой экологической катастрофой для русской природы, для предполагаемого уничтожения встающих на пути будущего канала исторических памятников, сёл и деревень, – встали единой стеной против осуществления этого преступного плана фактически по уничтожению России как целостного природного, исторического, культурного, цивилизационного русского космоса. Василий Белов отправил тогда в Кремль телеграмму с предупреждением, что обольёт себя бензином и сожжёт на Красной площади, если начнут осуществление запланированного и уже проплаченного миллиардами рублей в нищей стране – преступления. И в очередной раз спасли Россию, теперь уже от внутреннего врага.
– Ещё звучал язык есенинский, рубцовский…
– Сегодня я ощущаю одну безусловную агрессию извне: анти-поэзии против поэзии, сбрасывание с пьедесталов любого мастерства и умения. Неужели так было всегда? И неужели одна поэзия и способна противостоять засасыванию жизни в мёртвое болото «голого», лишённого вертикальных связей с небом быта, поистине звериного эгоизма и себялюбия? Кто победит в этой схватке, и возможна ли вообще какая-то в ней победа?
– Вы обращали внимание, кто говорит о поэзии в «Братьях Карамазовых» у Достоевского: «Стихи вздор-с… Это чтобы стих-с, то это существенный вздор-с. Рассудите сами: кто же на свете в рифму говорит? И если бы мы стали все в рифму говорить, хотя бы даже по приказанию начальства, то много ли бы мы насказали-с? Стихи не дело»? И кто говорит о России: «Я всю Россию ненавижу», «я не только не желаю быть военным, гусаром, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с». «В двенадцатом году было великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки»? Говорит всё это одно и то же гадкое и мерзкое лицо – Смердяков, как некое сатанинское воплощение «анти-поэзии против поэзии», а в сущности – «анти-России против России», страны изначально литературоцентричной, живущей молитвенным словом, источником которого является Слово, которое «было у Бога, и Слово было Бог». Чувствуете эту связь?.. И современную смердяковщину, всегда являющуюся синонимом русофобии и анти-поэзии.
В романе Достоевского неслучайно все Карамазовы названы «братьями», даже затесавшийся между ними как выяснится позже – незаконнорожденный от городской юродивой Лизаветы Смердящей выродок Смердяков. Мне представляется, что Фёдор Михайлович дал в этом романе все русские характеры и архетипы России, символично сошедшиеся в одной семье, где-то на обочине остается ещё один родственный им тип – князь Мышкин. И вот где-то среди них каждый раз находится тот (или те), кто определяет на данном историческом отрезке вектор движения в обществе, хватит ли воли и промыслительного замысла истории для возмужания Алёши, чтобы стать для России новым Сергием Радонежским со своими Пересветом и Ослябей, вот в чём вопрос?.. Как говорил Владимир Соловьёв, для нас важно не «что делать?», а «кто будет делать?».
А насчёт «мастерства и умения», как мы знаем, самыми изощрёнными по этой части как правило являются лишённые чувства поэзии алхимики, штукари, умеющие слепить, говоря словами Заболоцкого, «сосуд, в котором пустота», то, что умеет делать и машина, пишущая стихи, что на практике доказал ещё в 70-е годы математик и академик Андрей Колмогоров. Живое, трепетное слово Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Есенина, Рубцова, Горбовского… – не отшлифовано до глянца, скрывающим за своим блеском отсутствие души, отсутствие огня, «мерцающего в сосуде»…
– Ваш филологический пламень и жар,
пожалуй, достоин похвал,
но в нём настоящей поэзии дар
и не ночевал!
– Анти-поэзия сытого умозрения, грамотная и вялая, теперь торжествует: водопад созданных ею для самой себя премий изливается на неё круглосуточно, и предусмотрительно отброшены ею подальше от круга рассмотрения те, кто действительно составляет живую и оскорблённую суть времени. Нужно ли стараться разоблачить перед людьми то, что присвоило себе титул поэзии, но на деле ею не является, а есть прямо противоположное явление?
– Рассуждать, возмущаться, говорить об «играх» в литературу одних и тех же тусовщиков из одной и той же премиально-обжиральной шатии-братии, на мой взгляд, всё равно что недооценивать собственную самодостаточность. Во-первых, надо знать, что они, слава Богу, никогда не пустят нас на порог своей тусовки. А главное, следует помнить предупреждение псалмопевца: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых».
Другое дело, отношение государства и власти к своей культуре, но там во все времена были малокомпетентные люди в данном вопросе, власть всегда как-то провинциально заискивают перед медийными лицами и пригревает тех, кто представляет в нашей культуре «совет нечестивых». Об этом недавно напечатанные в «Литгазете» мои стихи:
Хоть солнце всем нам рáвно светит,
но есть сомнения подчас:
старик Державин нас заметит –
заметит ли Держава нас?Или, подобная Фемиде,
закрыв глаза, как будто спит,
осудит, ничего не видя,
иль, в гроб сводя, благословит?«Подите прочь!..» – её награда,
вот, скажет, Бог, а вот – порог,
а на груди пригреет гада,
давно привычный нам плевок!..Но знай – терпя обиды муки,
под смех врагов, под свист хлыста,
мы всё равно целуем руки,
твои державные уста!..
– Как вы относитесь к лозунгу о «квантовом скачке» от русской силлабо-тоники к западноевропейскому верлибру, вот уже двадцать с лишним лет несущимся то справа, то слева вздорным крикам о том, что русская рифма себя изжила?
– Будучи принципиальным приверженцем традиционного классического русского стиха, я также ценю талантливо написанное свободным стихом. Я дружил с лучшим русским верлибристом европейского уровня Владимиром Буричем, дружу с Вячеславом Куприяновым, Кареном Джангировым, лучшими современными поэтами, работающими в этой форме. В начале нового века у меня в Канаде усилиями Карена Джангирова вышла книга верлибров «Голые глаза», которую я отчасти написал в качестве эксперимента, чтобы доказать моим друзьям верлибристам, что и «рифмующий» поэт может неплохо себя чувствовать на их поле, чего не скажешь о большинстве из них. Так, когда однажды Бурич принёс к нам в альманах «Поэзия» свои как бы рифмованные стихи, они оказались весьма рыхлыми, неумелыми, многословными, значительно уступая и проигрывая его парадоксальным, умным, тонким миниатюрам в форме свободного стиха.
К сожалению, очень многие студенты Литературного института сегодня используют именно эту форму. В большинстве случаев, я вижу, что мотивация их отнюдь не обусловлена необходимой творческой задачей, замыслом, в конце концов, и Пушкин писал свободным и белым стихом, но просто молодые авторы избирают более лёгкий и модный путь, чтобы не утруждать себя постижением серьёзного мастерства, которого требует традиционное стихосложение. Думаю, здесь кроется большая проблема для будущего нашей поэзии в наступившем веке.
Тем же, кто говорит, что русская рифма себя изжила, рекомендую (в том числе и своим студентам) – обратиться к русскому фольклору, к народной поэзии, особенно к частушке, вот где раздолье, изобретательность, блеск, настоящий фейерверк свежей, яркой, звучной, неожиданной русской рифмы и богатейшего словаря. Запасы – неисчерпаемые, хватит на несколько веков, а новизна их столь органична и оригинальна, что никаким авангардистам и модернистам не достичь такого лёгкого как дыхания мастерства и такой творческой смелости. Я уже не говорю о сюжетном, ритмическом, интонационном разнообразии художественной роскоши народного искусства без всякой искусственности.
– В глухую стену, как подводник в «Курске»,
стучи сильней, чтоб слышали в Кремле, –
что ты не «новый», а последний русский
в своей стране, на собственной земле.
– О назначении поэта вы говорите здесь исчерпывающе. Ощущение себя последним русским – важнейшее для двух или даже трех последних десятилетий. Отчего иного пока не дано, разговор отдельный. Одиночество на пепелище надежд и мечтаний – явно. Что до ваших студентов, то каковы они? Есть ли единство мнений в семинаре? С разных сторон и разными стилистическими путями – подход к одному и тому же?
– Сергей Сергеевич, вы сами знаете – студенты разные. И талант у всех разный. Но часто, как подводнику в «Курске», трудно бывает достучаться до понимания: зачем они идут в литературу. Слова Боратынского о том, что «дарование есть поручение», которое грех не исполнить, кажутся им лишь фигурой речи. Когда я напоминаю им слова Есенина, сказанные в своё время молодому поэту: «Ищи родину, найдёшь – пан, не найдёшь – пропал», и пытаюсь объяснить, что без этого не может быть национального поэта, который по слову Пушкина есть «эхо русского народа», мне отвечают: «А зачем? Нам это не нужно». Кому же в таком случае нужны их стихи? Жалкой тусовке, где они назначают сами себя гениями и королями поэзии?
«Единства мнений» я не хочу, мне интересны разные эстетические, мировоззренческие, философские взгляды, поиски смыслов, открытия.
Вдогонку недавнему 400-летнему юбилею протопопа Аввакума, хочу сказать, что мне очень не хватает в сегодняшней литературе его огненной страсти, мощной яркой образности, энергии слова, убеждённости в своей правоте. Сейчас писатель такого масштаба мог бы стать победителем, встряхнуть наше литературное непроточное болото.
– И последний вопрос – о будущем. Многое и в поэзии, и в самой мелодике жизни и нами, и не нами преступно утрачено навсегда, но чем сегодня можно утешаться? И стоит ли утешаться? Укажите на то, что неизменно приподнимает ваш дух.
– Так и хочется привести здесь строки восемнадцатилетнего, почти юноши, Лермонтова, хотя это мало утешает:
Я жить хочу! Хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет.1832 г.
На самом деле раздражает, мешает, отвлекает, мельчит чувства, мысли – временное, преходящее, суетное, пошлое, грязное, глупое… Утешает же – вечное, прекрасное, неторопливое, мудрое, высокое, горнее… В прямом и буквальном смысле «звёздное небо надо мной и моральный закон во мне» (Иммануил Кант). И ещё. Ничто так не успокаивает, как созерцание какой-нибудь травинки с капелькой росы на ней, запах антоновки, напоминающий «Антоновские яблоки» Бунина, шум дождя, музыка Рахманинова и Свиридова… Случается даже и нечаянное счастье, которое не хочет ни с чем рифмоваться, а сразу, выпавшим кристаллом, укладывается в три строчки верлибра:
Дорогу мне перелетел кузнечик,
и, в городе, напомнил вдруг о том,
что где-то есть река, трава и детство.
Беседовал Сергей Арутюнов