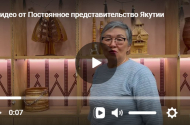Константин Кедров: поэт и почетный алтарник

Константин Кедров-Челищев – известный поэт, создатель термина «метаметафора», по данным СМИ, дважды номинировавшийся на Нобелевскую премию по литературе. Вторая часть его фамилии – в честь двоюродного деда, художника Павла Челищева, уроженца Калужской земли. Там в селе Дубровка с середины XIX века стояла усадьба Челищевых, но после революции прадеда поэта, Федора, выгнали из «барского» дома с одним чемоданом. Местные до сих пор передают из поколения в поколение его завещание: «Теперь все это ваше. Пользуйтесь, только ничего не рушьте!» Но, увы, рушат. Известный потомок рода, Константин Кедров, приезжал в Дубровку в 2011 году – мало что он застал из того, о чем рассказывали ему родные. Разве только липы, посаженные прадедом. Веточку липы Кедров увез в Москву, в родовое село больше не приезжал. В беседе с поэтом речь зашла о его приходе к вере, ведь оказывается, что этот человек, чью поэзию сравнивают даже с математикой – настолько она необычна (а самый известный его сборник называется «Компьютер любви»), служит алтарником в одном из столичных храмов.
– Константин Александрович, в отличие от ваших предков, вы жили в стране победившего атеизма, тем интереснее узнать, как вы вообще оказались в Церкви…
– В школьные годы я на лето уезжал в Углич, а там был единственный открытый храм. Я зашел, а когда услышал пение клироса, просто обомлел! Понял, что это гораздо лучше всего, что мне предлагается в школе, да и вообще в жизни. Меня заметил священник, стал, как принято говорить, окормлять. Подарил мне Евангелие. Я прочел, сначала ничего не понял. Там Христос ругает каких-то книжников, это как-то не совпало с тем, что Он любит всех, много было несоответствий, как мне тогда казалось… Но когда я дошел до Нагорной проповеди, все встало на свои места!
– И вы ее поняли? Сколько вам было лет?
– Лет двенадцать, но это невозможно не понять в любом возрасте! Это невозможно не почувствовать. К тому же это гениальная поэзия. А в школе Данко какой-то вырывает сердце, какая-то мать, – чушь, короче говоря, полная. И так постепенно я стал погружаться в православную службу. Когда-то я ее знал вообще наизусть. Потому что это, еще раз подчеркну, помимо всего прочего – величайшая поэзия.
Собственно говоря, в основе моей поэзии лежит литургический стих. Он основан на интонации, на так называемых восьми гласах.
– А как родители отнеслись к вашему желанию постигать православную веру?
– Ну как! Все понимали, что неприятностей вагон мог быть! Папа – режиссер, а мама – по происхождению дворянка, пораженная в правах, не могла получить высшее образование… Тем не менее, мама была «за», но настаивала на большой конспирации. Однако, как ни конспирируйся, человека христианской культуры отличить от человека советской культуры очень легко.
– А вы много таких людей в своем детстве встречали?
– Я же при театре рос и при храме. В нашем окружении было много даже подвижников. Встречался в том же Угличе, например, с будущим архиепископом, который лет десять провел в лагерях, Кассианом (Ярославским); он до 90 лет дожил. А мы с ним познакомились, когда ему было шестьдесят, – он уже тогда мне казался глубоким старцем. Или, например, архиепископ Казанский Михаил (Воскресенский), сын расстрелянного священника, во время войны был офицером. После войны почти сразу был рукоположен в священники. Тогда немало бывших военнослужащих рукополагалось, Сталин на это смотрел сквозь пальцы, потому что увидел, что на войне священники не продавались. Кстати, владыка Михаил и снабжал меня всей духовной литературой в мои годы взросления.
<...>
– Теперь провокационный вопрос. Вы своими учителями считаете Маяковского и Хлебникова. Первый – вообще богоборец. При этом стали сами алтарником. Это что – какая-то метафора? Или противоречие?
– Сначала про учителей. Вы удивитесь, но Маяковский абсолютно литургичен по интонациям, хотя был атеистом и богоборцем. Именно он и Хлебников открыли мне, какой может быть стих и сколько там возможностей невероятных! И, знаете, эти возможности не только не используются, но запрещены, потому что до сих пор, вот вы обратите внимание, у нынешних критиков, жандармов от литературы, когда они видят стих, не похожий на столбик, глаза наливаются кровью. И они всем говорят: пишите, как Ахматова. Поэтому борьба за свободный стих продолжается. Мы в поэзии никак не можем переселиться не только в XIX век, но, с моей точки зрения, и в XX еще не перешли.
А между тем священники – начитанные люди. И вот священники того храма, где я алтарничаю, полюбили мои стихи, мою книгу, которая в Нобелевской библиотеке находится, она называется «Инсайдаут».
– А что это за церковь?
– Малое Вознесение, храм напротив Московской консерватории. Там «паслись» многие мои друзья, и я туда же пришел. Идешь туда, где тебя понимают и принимают, а в какой-нибудь союз писателей как-то и не тянет. Вначале в нашем храме был плохой хор, он ранил мне слух, а сейчас небольшой и очень хорошо отлаженный.
И священники сказали: почему бы вам не стать алтарником у нас? Теперь вот – почетный алтарник, как батюшка говорит.
– И они действительно поняли вашу поэзию?
– По-моему, поняли, и хотят даже книгу издать. Повторяю: священники сегодня, как правило, интеллигентнейшие люди, при всем при том что священник – это тяжелейшая работа. Тяжелейшая! Я вообще не понимаю, как они не падают замертво. Утром проснись на богослужение, потом отпевай, венчай, потом еще и вечером служба, и в шесть утра – опять на ногах. У них у всех поголовно язва желудка. Над священниками у кого-то принято посмеиваться; они разные, конечно, бывают, но мне встречались только образованные люди.
– Два слова о вашей поэзии. Это действительно новое дыхание, извините за штамп. И метаметафора, тот термин, что вы придумали, – это когда много смысла в каждой строчке. А как сегодня молодые люди, студенты того же Литинститута, в который вы вернулись преподавать, воспринимают ваши метаметафоры, стихи, основанные на литургике?
– Метаметафора – это, действительно, неслучайная приставка, это я не с похмелья придумал. Суть метаметафоры – выворачивание, или инсайдаут. В обыденной жизни земля плоская, а метаметафорически – в форме сердца. В обыденной жизни космос снаружи и лишь проникает в человека, как в некую пылинку. Метаметафорически песчинка, вывернувшись, как бутон, наизнанку, вмещает в себя космос. Меньшее вмещает в себя большее, охватывая его метафизически изнутри. Павел Челищев в письмах 1948 года из Нью-Йорка к моей тетушке называл это «ангелической перспективой». Она в его картине «Каш-каш» (прятки), которая написана в 1942-м, в год моего рождения.
– Вот и я о том же: сложно все это понять современному молодому человеку. Или все-таки студенты вас понимают?
– Я пока не успел разузнать студентов Литинститута, но пока что лекции прерываются аплодисментами, что, кстати говоря, вызовет у моих коллег недобрые чувства. Так бывало и в советское время, но тогда на всплеск интереса к метапоэзии обращала внимание Лубянка. Тогда на эти лекции приходили со всей страны, и они, с Лубянки, почему-то считали, что метаметафору подбросили из-за границы. Они были клиническими сумасшедшими. Но тогда они жестко следили за литературой не просто так, понимали, что это очень важно, однако понимали по-своему. Меня не вызывали в страшные кабинеты – просто завели дело об антисоветской агитации. Может, кто-то и настучал, а может, сами соорудили. Стучат-то всегда и на всех в тоталитарном государстве. Но поэзия и Церковь неизменно выше всего этого.