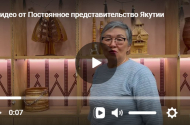Невероятнейший. Сергей Арутюнов о ранних пушкинских стихотворениях

Главное, что требуют от нас жизнь, вера, любовь, свобода – вообще бытие в самом широком смысле этого слова – восхищения, преклонения перед чудом. Чудеса явлены и продолжаются, и если мы изнываем в мире от скуки, то, значит, живительная влага их перестала достигать нашего существа, и самое время подумать о причинах той чёрствости, которые обуревают нас и злее, и неотступнее любых древних демонов.
Ранние стихи Пушкина – такой же источник для бесконечного постижения сверхчеловеческой глубины языка, как и, может быть, Святое Писание, надо только уметь прочесть их с особого ракурса, открывающего доселе не познанное. И первая же сноска в данной максиме – надо только прочесть, чего подавляющее большинство из нас не делает годами и десятилетиями. Обстоятельства, знаете ли…
Знаем.
Пушкин – то самое зеркало, в которое с определённым оттенком нарциссизма те, кто умеют его постигать, смотрятся всю жизнь. Его одного порой хватает, как того же Писания, для того, чтобы постичь изменчивость и неизменность бытия.
Тайна Пушкина – в вечном младенчестве духа, свежести, непоседливости и капризности, сквозь которую каждый узнаёт себя в четырёх-пятилетнем возрасте, ещё не отравленным «взрослым» нытьём об усталости и невозможности продолжать «существовать в таких условиях». В каких это – таких? Лишены ли вы крова и куска хлеба, преданы ли роднёй? Нет? Нытьё, позорное нытьё эти ваши жалобы.
Из весёлых, лучащихся строк на нас взирает лицо и улыбчивое, и озорное, и озарённое гаммой эмоций от предельного холерического отчаяния до холерического же предельного восторга. В этом лице самые неиспорченные из нас прозревают образ, данный всем нам от рождения. О, вечная погоня за детством как средоточием лучшего, солнечного, искристого! Умираем тогда лишь, когда призрак его окончательно угасает.
Вторая «Чёрная речка»
О Пушкине до сих пор нельзя молвить без волнения: весь он, такой непривычный, переливающийся, волшебный, приведён к почти полному безмолвию, сломлен и засушен – школьной программой.
Увы – нашему академическому литературоведению! Оно произвело с изменчивым, не поддающимся анализу Пушкиным бесчеловечный эксперимент.
Пушкин! – подразделён на «любовного», «гражданского», «свободолюбивого», и тем самым разъят на части, как предустановленная гармония!
Пушкин! – обращён в коровью тушу с плаката в продуктовом магазине: «голяшка», «кострец» и «огузок» – вот чем в рассмотрении почтенных составителей хрестоматий предстают его свободолюбие, гражданственность и любвеобильность. Но весь он, тем не менее, и свобода, и любовь, и гражданство. Он – тот, кто пробудил наш язык от спячки, надсмеявшись над его грузной бюрократической основой и приведя его к изъяснению предельно человеческому. Иными словами, Пушкин впервые, может быть, показал нам – нас.
Начнём же – или хотя бы попытаемся – осознать, кто он, пробудить в себе лучшие начала, и задать его стихам те верные вопросы, на которые можно ответить хотя бы без гнева и пристрастия.
Его первый адресат – некая Наталья («К Наталье», 1813).
Это типичная удалая любовная песнь, написанная простонародным хореем, и призванная изъяснить страсть. Концовка:
Не владетель я Сераля,
Не арап, не турок я.
За учтивого китайца,
Грубого американца
Почитать меня нельзя,
Не представь и немчурою,
С колпаком на волосах,
С кружкой, пивом налитою,
И с цигаркою в зубах.
Не будет большим преувеличением заметить, что эксплуатация бывших некогда куда как в ходу «национальных стереотипов» не добавляет нашему национальному гению ни грамма толерантности. Он не толерантен! Зачем же он так? Разве не лучше изъясниться иначе?
Нет, не лучше.
Пушкин, отталкиваясь от «грубых» американцев и «учтивых» китайцев, ищет тайну русскости «от противного». Его отчизнолюбие нисколько не изменится и в зрелые годы, когда в стихотворном послании «Клеветникам России», считаемым и сейчас в некоторых кругах «нагло имперским», он попытается с отстранённо насмешливой светскостью отвергнуть весьма горячие притязания соседей не только на земли, но и на правду своей страны.
Пушкинский патриотизм исходит из самой сокровенной, пожалуй, препозиции, в которой русский интеллигент (интеллектуал, образованный человек – как угодно, без разницы) вынужден быть экскурсоводом у неких «немцев», достаточно расфуфыренных и брезгливых, чтобы поднимать брови по любому поводу. При виде, например, засыпанных снегом по крышу бревенчатых изб, крытых ничем иным, как соломой, и сиротливой скотины во дворах. А эти золотушные дети! А скудость сервировки столов!
Ещё бы им не морщиться, они же только что из Версалей…
Но чем оборваннее ребятишки в сенях, чем гуще покрыта сетью трещин кривобокая глиняная посуда, тем яростнее вскипает в груди и жалость, и обида на тех, кто смеет издевательски приподымать брови.
Оборотитесь-ка лучше вы, взирающие, на самих себя, на свои деревни, – вот как примерно можно парировать взлёты бровей.
Русский патриотизм извечно – в стойке английского бокса, с поднятыми к подбородку кулаками. Он ранен несовершенством и порой откровенной убогостью России. До сведения господ иностранцев он стремится донести примерно следующее: да, стыд, да, позор, издержки неэффективного управления, и расслоение неслыханное, и нищета, но всё это – моё. Слышите? – моё. Я – отсюда. И не стыжусь.
Концовка первого известного нам стихотворения его – «Знай, Наталья! – я… монах!» автоматически, с железной логикой влечёт за собой стихотворение «Монах». С ума сойти от такой последовательности развития образов.
Во вкусе Рабле и прочих средневековых насмешников, изнывавших от витальности и проказ, разыгрывается притча о монахе, решившемся на договор с бесом. В ответ на обещание «свезти в Ерусалим» монах поддаётся и оседлывает нечистого духа, полагая, что такое воздушное сообщение не принесёт ему падения в пропасть:
«Старик, старик, не слушай ты Молока,
Оставь его, оставь Ерусалим.
Лишь ищет бес поддеть святого с бока,
Не связывай ты тесной дружбы с ним»,
– молит автор, но фантастический полёт начинается, и Бог весть, чем кончится… сравните с гоголевским Вакулой. Невероятие Пушкина – напрямую от инкруайяблей («невероятных») Парижа и окрестностей, «модов» и «готов» 1820-х годов, гротесковых любителей постреволюционно-гильотинной инфернальности. Но все эти мотивы оптом – о, ирония! о, сарказм! – достались, в конечном счёте, Гоголю.