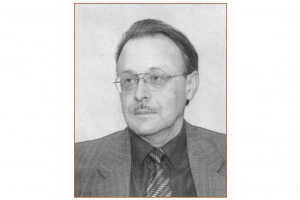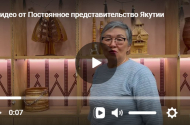Павел Руднев: «В России огромное лабораторное движение». Как меняется театр сегодня

Программный директор театрального фестиваля «Толстой», театральный критик Павел Руднев рассказал Forbes Life, как в разные времена цензурировали Чехова и Толстого, как современные режиссеры работают с классическим материалом и зачем Софья Толстая каждый день подробно записывала, что ели в Ясной Поляне.
Павел Руднев — один из самых известных исследователей театра в России. Он преподавал в ГИТИСе и РГГУ, читал курс о театре для онлайн-платформы «Постнаука», а в 2018 году выпустил книгу об отечественных драматургах — «Драма памяти. Очерки истории российской драматургии от Розова до наших дней», в которой подробно рассказал о людях, сформировавших современный российский театр, — от Виктора Розова до Елены Греминой и Михаила Угарова. В разные годы Руднев был экспертом премии «Золотая маска» и состоял в жюри престижных драматургических конкурсов вроде «Евразии» и «Любимовки», а с 2004 по 2011 год занимал пост арт-директора Центра им. Вс. Мейерхольда.
В 2018 году Руднев стал программным директором театрального фестиваля в Ясной Поляне. В этом году фестиваль прошел в шестой раз — в числе прочего зрителям показали спектакль театра им. Вахтангова «Война и мир» в антураже усадьбы Толстых.
— В начале июля театральный фестиваль в усадьбе Ясная Поляна прошел в шестой раз. Появился детский театр, музыкальная программа. Фестиваль расширяется?
— Театр для детей был и прежде, но в мизерных количествах, как приложение к основной программе. А ввиду того, что в этом году 170 лет публикации повести «Детство» и 160 лет венчания Льва Николаевича и Софьи Андреевны, тема детства стала центральной, и количество детских спектаклей значительно увеличилось. Движение в сторону детей, подростков, в сторону детства, темы радостей и травм, для Толстого важных в одинаковой мере, отличает фестиваль этого года.
Нам всякий раз приходится заново придумывать, куда повернуть: в ойкумене под названием Толстой — бесконечное количество тем. Были даже мысли о том, как уйти от фигуры Толстого, растворившись в его времени. В этом году впервые благодаря Кате Толстой появилась музыкальная программа. Композитор Виктор Осадчев побывал в усадьбе и создал несколько произведений, посвященных Ясной Поляне. Из давно задуманного, но пока не реализованного: никак не удается уделить внимание искусству художественного чтения.
— Центральная тема «Детства» — сиротство. Состояние, эмоционально резонирующее с сегодняшними настроениями. Насколько, на ваш взгляд, театр способен помочь пережить, излечить?
— Сиротство — безусловно ведущая тема русской литературы. Тут можно привести бесчисленное количество примеров. Так пьесы Александра Володина называли сиротскими, подразумевая, что его тексты — как и вся оттепель, мелодраматическая, слезливая, лечившая, оплакивавшая человека, вернувшегося с войны. Это была центральная тема оттепели, и она совпадала с характером ее драматургов. Александр Володин потерял родителей в гражданскую войну. Александр Вампилов потерял отца и деда в эпоху репрессий. Тема старшего сына — одна из центральных в советской культуре. «Старший сын», Блудный сын с его религиозными коннотациями тянет за собой тему Блудного отца. Зигмунд Фрейд в своей статье «Достоевский и отцеубийство» сравнивал сюжет «Братьев Карамазовых» с «Гамлетом» и «Царем Эдипом». Убитый, замученный ребенок — тема и Пушкина, и Достоевского, и Платонова.
В этом смысле театр, который позволяет встать на территорию другого человека, понять, что другой — не чужой, а близкий тебе человек, хорошо оснащен технологиями лечения. Хороший спектакль остается современным очень долго. Двигаясь по времени, он вбирает время в себя. Поэтому в сегодняшнем спектакле срабатывают одни акценты, а в завтрашнем они будут совершенно другие, и люди будут смеяться и плакать в разных местах.
Когда ты смотришь через механизм театра на травму «Детства», можешь понять человека со сложностями и комплексами, возникшими оттого, что у него, например, как у Толстого, не было матери и очень рано умер отец. Так детство для него и бесконечная радость, и одновременно бесконечная травма. Один из фестивальных спектаклей, поставленный студентами гитисовского курса Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова, основан на тексте «Детства».
<...>
— Поразительно, как в Ясной Поляне, при живых, в общем-то, недальних потомках Толстого звучат в разного рода интерпретациях подчас самые интимные документы, письма, дневники.
— Это ведь все опубликованные документы. Толстые сами сделали их предметом дискуссии и обсуждения. Остальное — уже вопрос доверия к художнику. Когда ты выбираешь кого-либо на постановку, ты доверяешь его вкусу. Но вкус — изменчивая величина. В разные эпохи российского театра бывали разные вкусы. Когда-то невозможно было выйти на сцену женщине без чулок. Театр преодолел это табу. Затем Чехов ввел моду на курящих, пьющих женщин. Цензура была резко против, и некоторые критики говорили, что такие пьесы вообще недопустимы. Но без деталей, без тонкостей и интимных воспоминаний жизнь Толстого будет только абстрактным памятником, а не живой развивающейся материей.
В нулевые книжка Дональда Рейфилда, где раскрыты сексуальные тайны Антона Чехова, вызвала негодование чеховедов. А кто-то, наоборот, посчитал, что, если развернуть скрытые цитаты, Чехов становится более понятным. Вот, например, когда узнаешь, что цензоры выкинули из пьесы «Чайка» фразу, что Тригорин теперь может общаться только с немолодыми женщинами и пьет только пиво, и соотносишь ее с фразой Чехова, что «нужно бы впрыснуть спермину» Тригорину в исполнении Станиславского. Становится понятным, что Тригорин либо болел сифилисом, так как спермин применялся как средство от сифилитической болезни, либо был полуимпотент, то же лекарство употребляли как теперь виагру. У Чехова эта информация звучала. Но цензор ее удалил. И это меняет зрительское восприятие, делает Тригорина фигурой уже не такой комической, как в комедии Чехова.
Толстого цензурировало советское литературоведение. В 1956 году случился один из крупнейших прорывов в советском толстоведении. Режиссер Борис Равенских поставил в Малом театре толстовскую пьесу «Власть тьмы». Там была коронная роль Игоря Ильинского. О спектакле писали как об оттепельном, хотя Борис Равенских не был «застрельщиком» оттепели. И Ильинский не был человеком оттепели. И вообще Малый театр никак с оттепелью не соотносится. Но через «Власть тьмы» был нанесен такой удар по этике советского человека, что невольно возник разговор о возвращении к архаичным устоям общества: отход от коммунистической морали к христианской.
Критика писала о личном, этическом потрясении от спектакля. Из протоколов заседаний худсовета известно, что спектакль тяжело проходил в дирекции Малого театра. Его хотели закрывать, потому что дирекция Малого театра увидела в нем очернение русского человека. Что крестьянство изображено Львом Толстым как подлое, лгущее, лицемерное, эгоистическое, думающее только о деньгах. Этой пьесой Толстой уничтожал стереотип народа-богоносца и вместе с тем его поддерживал в фигуре Акима. Он написал о крестьянстве, о том, как оно приспосабливается к городской капиталистической цивилизации. Представьте себе: пьеса Толстого спустя три четверти века все еще опасна.
В 1978 году в Малом театре тот же режиссер поставил пьесу драматурга Иона Друцэ «Возвращение на круги своя», где события последнего года жизни Толстого рассматривались только с маскулинной точки зрения. Роль Льва Николаевича возвышалась, а Софьи Андреевны, наоборот, принижалась. Само название пьесы «Возвращение на круги своя» определяло Софью Андреевну как женщину приземленную, не способную возвыситься до гения. Советское толстоведение так распределяло гендерные роли: недостижимый гений и женщина, не доросшая до него. С точки зрения современной гендерной оптики такая расстановка уже невозможна. Современные драматурги, и Марюс Ивашкявичюс, и Ольга Погодина-Кузмина, и Юлия Поспелова, в своих толстовских пьесах формулируют другие идеи, в другой амплитуде. Голос Софьи Андреевны звучит иногда мощнее, чем голос Льва Николаевича. Драматурги занимаются апологией этой удивительной личности.
<...>
— На ваш взгляд, может ли сегодня российский театр служить нравственной опорой общества?
— Российский театр мощно развился в нулевые, в 2010-е годы, он стал многосоставным, работающим на разные категории населения. Отказавшись от идеи единого театра для всех и признав, что есть театр для разных категорий населения, потому что общество не едино, театр создал отдельные проекты для каждого сегмента. Опыт моего посещения театров по всей стране говорит о том, что там, где зрителем занимаются, там всегда есть публика.
В 1990-е театр, когда его заставили зарабатывать, потерял зрителя, утратил функцию кафедры и центра просвещения. Но за 2000 и 2010-е годы театр свою роль вернул. На других основаниях, не так, как это выглядело в Советском Союзе, но вернул. Сегодня театр по-прежнему — интеллектуальная, морально-просветительская глыба.