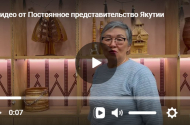Тишайший незабвенный. Сергей Арутюнов о Владимире Соколове

Была то ли поздняя безотрадная осень, то ли долгая, какая-то пачкающая, а не освежающая в городах удушливая зима, то ли самая ранняя, ещё не радующая, а присягающая зачем-то зиме календарная весна, когда в нашу аудиторию вошёл стройный ещё не старик, но человек уже явно пожилой.
Такие глаза, как у него, принято называть «совиными», но ничего совиного в них не было и в помине. Были они круглы, и в потайных уголках взгляда затаилось то ли сомнение, то ли смущение перед нами.
Одет он был так неброско, что могло создаться впечатление, что он специально подбирал как можно более камуфляжную для среднерусского пейзажа одежду: слегка «дутый» серый плащ, серый шерстяной костюм, под ним, помнится, неопределённого цвета свитер без «горла». Пригладил волосы, сел…
- У нас в гостях поэт Владимир Соколов, - сказала Татьяна Бек, принявшись рассказывать о нём.
Были мы молоды, и нагло, как только и бывает в крайней молодости, самоуверенны, и понимать его состояния не хотели, да и не могли. У нас были исключительно свои песни, в которых мы только пытались нащупать что-то своё, а он уже себя знал… стихи он писал с детства, а публиковался к тому моменту уже почти полвека. Мы не были из одного цеха уже потому, что в цеху ещё не были.
Долгие десятки минут ушли у него на то, чтобы приспособиться к незнакомому молодому племени. Он то взглядывал в окно, то смотрел в пол. Скоро начал читать, вскидывая прозрачный взгляд и в нас, и в потолочные углы. Голос его был ни высок, ни низок, тенор с колокольчатым тоном на самом верху диапазона.
Отчётливо воспоминается: света зажигать мы не стали, а сумерничали, и он уже начал слегка расплываться в сочившихся к нам неверных отблесках учреждения через улицу, а когда всё-таки верхний казённый электрический свет был зажжён, то передёрнулся и поморщился от него…
Подлинность, взвешенность строк его ощущалась практически сразу, но век тянул и нас, и его в совершенно противоположную сторону: тот человек так разительно отличался от эстрадных выкриков политиков, экономистов, астрологов, юмористов и других тогдашних «властителей дум», что можно было подумать, что намеренно выгребает против течения, и изрядно уже им утомлён. Отсутствие блёсток и на его одежде, и в его стихотворениях должно было показать идентичность его внутреннего и внешнего закона.
Безвестность – это не бесславье.
Безвестен лютик полевой,
Всем золотеющий во здравье,
А иногда за упокой.
Перед нами был мужчина, стойкий в одном: отстаивании суверенности своей души перед всеми бурями и поветриями.
Так было два часа.
Звучат, гоня химеры
Пустого баловства,
Прозрачные размеры,
Обычные слова.
Что-то нравилось, что-то плыло мимо сознания, но в те два часа каждый из нас был, как на церковной службе: свободен, предоставлен самому себе и максимально корректно вопрошён о том, кто он есть. И мне пришлась по нраву та невесомость.
Было это года за два или за год до его кончины. А теперь я помню, что из трёх «тихих лириков» видел вживую только его.
***
Отказаться, отстать, отлучиться,
Проворонить... И странным путем
То увидеть, чему научиться
Невозможно, – что будет потом.
- вот один из его девизов о духе, проявляющемся только в отсутствие суеты. О внезапных провидениях, возникающих лишь при одном условии – очищении души от гнёта повседневности, впадения в иные координаты бытия. Фактически это призыв к духовным практикам, недалеко отстоящим от генетического Православия.
Он не стеснялся быть архаичным!
Из переулка сразу в сон
Особняков, в роман старинный
И к тишине на именины,
Где каждый снами угощён.Из переулка сразу в тишь
Ещё торжественней и глубже,
Где тает лист, где блещут лужи,
Где каплет с порыжелых крыш...
- почти пушкинская преображённая стать по светлой глубине чувства.
У нас часто поговаривают, что лишь «состоявшиеся» способны не стесняться ни старости, ни немочи, ни себя самих, но мне кажется, что тайна «состояния» состоит, простите за тавтологию, в извечном сомнении в своём состоянии. В стихах Соколова истина нащупывается с явным трудом, косвенно и наощупь, и здесь, в сомнении – разгадка секрета вечной молодости и вообще способности что-то говорить.
Одно из самых сокровенных его желаний – раннее, того самого 1948-го года, когда он вышел в литературный свет, и сразу ставшее credo:
Как я хочу, чтоб строчки эти
Забыли, что они слова,
А стали: небо, крыши, ветер,
Сырых бульваров дерева!Чтоб из распахнутой страницы,
Как из открытого окна,
Раздался свет, запели птицы,
Дохнула жизни глубина.
***
По сути, «тихая лирика» - довольно жалкий эвфемизм поруганной и проклятой русской аристократии, аристократии духа, неведомо как уцелевшей от нестерпимой грубости уже нем «победившего пролетариата», а тех самых «из грязи в князи» работников социально-политических ведомств, обожавших понукать и трунить над ослушниками, прекращающим следование в общей колонне.
В советской литературе различаются затерянные в морозной заполярной мгле тысячи и тысячи островков почти безымянных. Соколов привносит в громокипящее пролетарское варево оттенок стеснительности, стыда, в пределе – покаяния:
Когда смеются за спиной,
Мне кажется, что надо мной.
- не паранойя «книжного мальчика», а предельно здравое личностное сознание греховности жизни, какой бы «тихой» она ни была.
Мы все занимаем чужое место. Так шепчет нам христианство. Даже пребывая в иллюзии занятия своего и только своего предела, мы не можем избавиться от подспудного ощущения неправды и неправоты наших имён, взятых у кого-то напрокат, наших биографий, смутностей воспитания и образования, анкетных данных самого общего свойства. Отчего?
Оттого, вероятно, что душа прописки иметь не может. Её не приткнуть на коммунальных площадях, в муниципальные и иные органы власти, на производство или в «сферу культуры» именно потому, что изначально она рождена бездомной, и не смиряется ни с чем из щедро предоставляемых обществом и судьбой шансов. Душа – ничья, и с этой тайной не совладать, ключей от замка нет и быть не может ни одного, кроме горячей веры в чудо, ещё возможное, ещё такое близкое, чем ближе ты к своему детству.
В чём же лукавство?
Но я хитрец. Я берегу
Сознание того, что рядом
На москворецком берегу
Есть дом её с крутым фасадом.Она, не потупляя взгляд,
Когда метель недвижно ляжет,
Придёт ко мне и тихо скажет,
Что я ни в чём не виноват.
- совершенно ясно, что речь вовсе не о доме в житийном смысле. Простите за резкость сопоставления, но мне очевидно, что речь вообще не о женщине, а о Той, чей взгляд и может простить, Той, что светит нам с чудотворных икон. И дом её «с крутым фасадом» - ни что иное, как Храм Божий.
***
О его горе я узнал только вчера. Он не выпячивал его, рано оставшись с двумя детьми, отцом-одиночкой, бобылем в расцвете сил и надорванным этим расцветом, как чёрной весной. Все его усилия даже спустя десятилетия были сосредоточены на осознании вины. Рана не зарастала, и вряд ли вообще могла зарасти.
Не торопись. Погоди. Обожди.
Скоро пойдут проливные дожди.Не говори мне того, что я сам
Скоро узнаю по чьим-то глазам.Не торопись. Помолчи. Погоди.
Ведь у меня ещё всё впереди.Тают дороги. Ломаются льды.
Дай постоять на пороге беды.
- то убеждал он себя, то пытался до смерти забаюкать, то вырулить из потока наплывающих друг на друга льдин и брёвен. Времён и событий.
Я все тебе отдал. И тело,
И душу – до крайнего дня.
Послушай, куда же ты дела,
Куда же ты дела меня?
Говорят, что лирика – удел влюблённых. Ложь! Лирика – удел старателей духа, превзошедших любовь и плотскую, и даже личную, растворивших её в утреннем слегка подкрашенном кипятке.
Вы можете сказать, о ком это?
Она души не приняла.
А я старался. Так старался,
Что и свои забыл дела,
И без иной души остался.
Я говорю о ней: была.
Нехорошо. Она живая.
Она по-прежнему светла.
Она живёт, переживая,
Но – там, где я сгорел дотла,
С ней всё на свете забывая.
Я говорю о ней: была.
Она души не приняла.
Но это – малые дела
Среди дерзаний и сказаний.
Живи, да будет лик твой тих
И чист, как той весною ранней,
Среди оставшишся в живых
Воспоминаний...
Поминаний.
Я – нет. И не хочу догадываться. Ушедшая жена, Родина, свобода, история, партия, любовь, судьба – без разницы. Не приняла, и всё кажется крахом, трагической надтреснутостью фарфоровой посуды, оконных переплётов и сущего неба над головой.
Я не скажу тебе, что весь секрет
В том, что дороги не было и нет.
Она пройдёт сквозь строй стволов – в итоге.
Просветом. Птицей... Мало ли примет?
- чтобы «писать кровью сердца», и так же глубоко, как ещё не мог ни девятнадцатый, ни даже двадцатый век, достаточно раздвоенности, неуверенности в том, что выражаешь себя самого.
Это страшно – всю жизнь ускользать,
Убегать, уходить от ответа.
Быть единственным – а написать
Совершенно другого поэта.
Есть одна боязнь – чужого, коренящегося в тебе, уничтожающего тебя уже потому, что ты иной. И невозможности вычленить себя из дымящейся гущи, явиться тем, кто ты есть, а не тем, кем себя выдумал в глупом и безнадёжном чаянии возыметь славу, деньги и власть.
Поэзия, одна не знаешь ты,
В чем цель твоя конечная... Иначе
Ты проявила б все свои черты
Давным-давно. И ни одной не пряча.
***
Он писал себя медленно, приучив ум и душу, всего себя к интимному диалогу с внутренней интонацией. Ни секунды для «социального заказа», какой-нибудь комсомольской «чувств мешанины» - надо было смочь выделить для себя белоснежную, высоко вознесенную над бараками и землянками подёнщиков резервацию молитвенного письма в стане записных агитаторов и пропагандистов.
Я не боюсь воскреснуть. Я боюсь,
Что будет слишком шумно.
Или:
Я славы не искал, зачем огласка?
Говорить было трудно, говорить было нестерпимо тяжко, но он говорил о свободе, не подчинённости желаний сердца ничему наносному, пошлому, дешёвому, и своего всё-таки добился: я читаю его, иные читают его, выучиваясь у него отсечению сути от уродующих её обрамлений.
И чья–то настольная книга
Должна трепетать на земле,
Как будто в предчувствии мига,
Что все это канет во мгле.
Не называя ничего, и, может быть, не смея назвать по имени, он звал – к Вере, которая в пределе есть полное отречение от себя и восторг сопричастности с бытием:
И хорошо мне... В долах
Летит морозный пух.
Высокий лунный холод
Захватывает дух.
Верится, что он там, в светах дальних и тихих, а «тихая лирика», которую присвоили ему, - просто обозначение затерявшихся во внутренностях имперской судьбы русских людей в таком нерусском, таком враждебном всему, что в нас теплится, двадцатом веке, так и не выпустившем его из себя на наши вольные выгулы.
И вот – итог, видимо, всего того, к чему душа рвалась от самого 1928-го по 1997-й годы, сквозь великие переломы, войну и послевоенное строительство, перестройку, гласность и обнищание девяностых:
Я не был в Иерусалиме
И вовсе, может быть, не буду,
Но снится мне: я том Заливе,
Где люди поклонились Чуду.Там, на водах, следы синели,
И Он кормил пятью хлебами
Людей, как птиц, что налетели,
Крича, как чайки, над песками.Я в стороне стоял. Я замер.
И мне сквозь годы волн и бредней
Сказал Он чистыми глазами:
«Возьми кусочек. Он последний».Я помню зной, сухую руку,
Следы, что таяли, не тая…
Потом мне снилась только мука,
Им наяву пережитая…Был сон ещё: я верил в Бога
И разуверился однажды.
И пролегла моя дорога
Полями города и жажды.Но, причащаясь молча Телу
И Крови жертвенной Господней,
Любому кланяясь уделу,
Я сердцем сыт и всех свободней.Я не был в Иерусалиме
И вовсе, может быть, не буду,
Но Купины неопалимей
Мой сон, что я свидетель Чуду.
И вот что я способен сказать: никакой это был не сон, а единственная явь, которую поэт способен различить в дымке бытия, та реальность, которую только и стоит видеть.