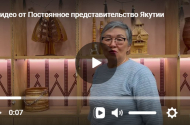Мучительный акт самопознания. Игорь Волгин о Достоевском

На вопросы «ЛГ» отвечает один из ведущих исследователей Достоевского в России и в мире Игорь Волгин. Мы побеседовали о роли великого писателя в прошлом, настоящем и будущем нашей страны.
– Игорь Леонидович, ещё при первом знакомстве с произведениями Ф.М. Достоевского школьники обычно делятся на две группы: на тех, кому его романы кажутся неподъёмными и скучными, и на тех, для кого Фёдор Михайлович становится любимым писателем. Как вам кажется, не рано ли школьникам читать Достоевского? Ведь они в основном не в состоянии постигнуть его глубину…
– Я, пожалуй, согласился бы с этой точкой зрения, если бы был уверен, что мы, взрослые, способны до конца постигнуть Достоевского. Впрочем, как и Пушкина, как и Толстого… Постижение великой литературы – долгий и не всегда лёгкий процесс. «Человек есть тайна, – написал семнадцатилетний Достоевский старшему брату. – Её надо разгадать, и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Но эти же слова применимы и к нему самому, к его творчеству. Не уверен, что мы, «не школьники», когда-нибудь полностью справимся с этой задачей. «И прелести твоей секрет / Разгадке жизни равносилен», – сказал поэт, правда, применительно к женщине. Но разгадка жизни способна обескровить саму жизнь: всё замрёт, история прекратится. Так вот, школа – первая ступень познания, и здесь – я много раз повторял – всё зависит от учителя. Он тот «магический кристалл», через который ученик взирает на предмет. Если подросток не верит учителю как личности, как человеку, то грош цена всему тому, что тот пытается ему внушить. Школьника на мякине не проведёшь. Поэтому в школу, по моему глубокому убеждению, должны идти лучшие из лучших. Вообще, Достоевский – молодёжный писатель: посмотрите на возраст его героев. Раскольников, князь Мышкин, Подросток, братья Карамазовы… Никому из них нет и тридцати. Да, юный школьник, пожалуй, не постигнет всех глубин (хотя школьники бывают разные). Но важно его зацепить, заинтересовать, может быть, даже «ушибить». (Кстати, в одной своей давней работе «Осторожно – дети!» я привожу многочисленные документальные свидетельства того, как педагогическая цензура в конце XIX – начале XX в. всячески противилась проникновению сочинений Достоевского в народные читальни и школы.) А дальше как бог даст. Другое дело, что школа в одиночку не может противостоять массовой культуре, тяготеющей к дайджесту, к уплощению и упрощению смыслов. Раскрученный блогер с лёгкостью побеждает романиста. Масскульт не без успеха адаптирует Достоевского «под себя». Как, впрочем, и всё другое. И у литературы (как у одного из источников нашей ментальности) остаётся только одна надежда: на изменение самого состава жизни, её ценностных ориентиров. Думаю, что именно этим человечеству, если только оно полагает выжить, придётся озаботиться в самом неотдалённом будущем.
<...>
– Два века минуло со дня рождения Ф.М. Достоевского. Что значит он для сегодняшнего мира? Почему его творчество и его личность до сих пор привлекают столь пристальное внимание?
– По мере того как тот или иной знаменитый писатель удаляется от нас в глубины истории, он «хрестоматизируется» и становится «достояньем доцента». Достоевский не избежал этой почётной участи. Но удивительный парадокс: миновало 140 лет после его кончины, а мы «вдруг» открываем для себя Достоевского не только как писателя злободневного, но и не вполне прочитанного. Он остаётся действующим лицом современного мира. С появлением автора «Преступления и наказания» Россия, которая доселе жадно поглощала духовную энергию Запада, сама становится мощным источником излучения. И дело даже не в тех пророчествах, которые были явлены (при этом воплотились не самые радостные из них). Дело в том, что человек «при посредстве» Достоевского узнал о себе такое, о чём он, может быть, смутно догадывался, но не мог осознать – ни в антропологическом, ни в художественном смыслах. Благодаря Достоевскому мы пережили мучительный акт самопознания. Причём даже с некоторым запасом, если иметь в виду коллизии, могущие подстерегать нас в ближайшем будущем. Это вроде бы как у самого Достоевского: до каторги и после. Лишь пройдя через смертный опыт и «мрачные пропасти земли», он стал тем, кем стал. То есть открыл в себе (и в окружающих его людях) то, что, не случись с ним этой беды, так и осталось бы, скорее всего, невостребованным. Он взял эпиграфом к «Братьям Карамазовым» слова Евангелия от Иоанна: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода». Он сам стал – после своей гражданской (и почти физической) смерти – подобным зерном. Мне уже приходилось говорить: он как бы вместил в себя весь диапазон, весь спектр русских духовных исканий – от петрашевцев до завершившей его жизнь Пушкинской речи (но: «Идеи меняются, сердце остаётся одно»). В известном смысле его можно назвать нашим национальным архетипом. Как утверждает Н. Бердяев, в нашем национальном сознании никогда не было мира. Не было инстинктов самосохранения, мы легко сжигали себя и распыляли в пространстве. Достоевский отразил и это свойство нашего духа. К исходу жизни он говорил, что вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной. Но это её статическое состояние: посмотрите, скажем, на Медного всадника. «Куда ты скачешь, гордый конь, // И где опустишь ты копыта?» («Опустишь», а отнюдь не «откинешь», как хотелось бы, например, некоторым нашим «доброжелателям».)
Что ж, сейчас весь мир как бы «колеблется над бездной». И неизвестно, если воспользоваться метафорой Семёновского плаца, будет ли в последний момент он помилован. При всём своём «жестоком таланте» автор «Записок из Мёртвого дома» (как то и не без некоего удивления отметил Герцен) «верит с энтузиазмом в русский народ». Да, относительно будущего своей страны Достоевский выказывает явный исторический оптимизм: «Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или сколько их тогда народится) будут все когда-нибудь образованны, очеловечены и счастливы». Заметьте, что условием счастья выступает здесь вовсе не материальный достаток.
– Помимо художественного важно ли для нас идеологическое наследие Достоевского?
– Их трудно разделить, хотя такие попытки предпринимались ещё при жизни писателя («не то художник даровитый, не то блаженный из Москвы»). И в дальнейшем подобная «расчленёнка» стала едва ли не нормой. Но во всём творчестве Достоевского действует единый нравственный закон, единый подход к жизненным обстоятельствам. «Что правда для человека как лица, – пишет он, – то пусть остаётся правдой и для всей нации. Да, конечно, можно проиграть временно, обеднеть на время, лишиться рынков, уменьшить производство, возвысить дороговизну. Но пусть зато останется нравственно здоров организм нации – и нация, несомненно, более выиграет, даже и материально». Это абсолютный моральный постулат, не делящий сферу нравственного существования на личное и государственное. Никакие «высшие» интересы не оправдывают, предположим, политическую безнравственность. Это отчаянная попытка внести христианское сознание в сферу практической жизни, поставить человека (нравственного человека) в центр мирового процесса. Достоевский говорит, что если бы кто-либо доказал ему, «что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа», то он предпочёл бы остаться со Христом, нежели с истиной. Это поразительное признание. Очевидно, надо понимать его так: если по какой-то причине истина окажется античеловечной («арифметикой», как выражался Раскольников), то автор «Идиота» желает остаться с человеком, нежели с бездушной и бессердечной истиной. Здесь зафиксирована главная национальная черта – жажда справедливости. «Россия поступит честно, –сказано в «Дневнике писателя», – вот и весь ответ на вопрос… Выгода России именно, коли надо, пойти даже и на явную невыгоду, на явную жертву, лишь бы не нарушить справедливости». И хотя политика, как известно, дело вполне беспринципное, Достоевский хочет уверить современников (да, пожалуй, и нас) совершенно в обратном. Он предлагает свои критерии: «…политика чести и бескорыстия есть не только высшая, но, может быть, и самая выгодная политика для великой нации, именно потому, что она великая. Политика текущей практичности и беспрерывного бросания себя туда, где повыгоднее, где понасущнее, изобличает мелочь, внутреннее бессилие государства, горькое положение. Дипломатический ум, ум практической и насущной выгоды всегда оказывался ниже правды и чести, а правда и честь кончали тем, что всегда торжествовали». И ещё: «Одной материальной выгодой, одним «хлебом» – такой высокий организм, как Россия, не может удовлетвориться».
Его мессианство не претендует на государственное величие, оно связано исключительно с «нравственным законом внутри нас». «Хоть где-нибудь да должна же сохраняться эта правда, хоть какая-нибудь из наций да должна же светить. Иначе что же будет: всё затемнится, замешается и потонет в цинизме». Способна ли сегодня Россия взять на себя эту роль – в мире, который всё дальше удаляется от Достоевского?
<...>
– В программе «Игра в бисер с Игорем Волгиным» вы обсудили с гостями, кажется, почти все произведения Достоевского – начиная с культовых романов и заканчивая повестями, малознакомыми широкому читателю…
– Да, ныне исполнилось десять лет этой программе, в которой действительно часто обсуждается Достоевский. Но как же иначе, как без него? Неожиданно (мы этого не предполагали): «Игру в бисер», рассчитанную преимущественно на взрослую аудиторию, смотрят также студенты (и школьники!). Я даже слышал, что в некоторых школьных классах затевается нечто подобное нашим интеллектуальным посиделкам. «Когда бы грек увидел наши игры...»
– Несмотря на ваши многочисленные исследования, кажется, вы не любите, когда вас называют литературоведом. Почему?
– Как это у Б. Ахмадулиной: «Жена литературоведа, сама литературовед» (смеётся). Достоевский в России больше, чем Достоевский. Он неотделим от русской трагедии и русской судьбы. И здесь потребны усилия многих наук (и искусств!). По образованию я историк и в своей писательской практике склонен опираться не на одни лишь литературные тексты. Только что в журнале «Неизвестный Достоевский» (№ 3) опубликована моя большая работа «Достоевский как турист». В 1862 году он впервые едет за границу, в результате появляются «Зимние заметки о летних впечатлениях». Однако в них ни словом не упомянуто о главном событии этого путешествия: о тайном визите к изгнаннику Герцену. Я попытался реконструировать скрытые обстоятельства этой лондонской встречи. Достоевский отправляется в Европу после грандиозных майских пожаров в Петербурге, в которых молва с молчаливого согласия правительства обвиняет студентов, а заодно и самого Герцена. Перед отъездом из Петербурга Достоевский посещает Чернышевского, коего просит повлиять на смятенные умы молодёжи. (При этом он категорически защищает студентов от криминальных подозрений: его статью, предназначенную для «Времени», запрещает цензура.) И он, кстати, не знает, что за три года до этого Чернышевский (разумеется, тоже тайно) посещал того же Герцена. Между тем в Петербурге в эти летние дни 1862 года арестовывают Д. Писарева и Н. Чернышевского, связанных с попытками нелегальной печати, а в Ясной Поляне полиция тщетно ищет типографский станок. Между тем у истоков этой традиции стоит именно Достоевский, который в 1849 году был напрямую причастен к затее с нелегальной типографией. Герцен в 1853 году в Лондоне фактически осуществил этот замысел, правда, легально. Они встречаются ещё и как типограф с типографом. Так затягиваются роковые узлы русской истории. О визите Достоевского агентом III Отделения было донесено в Петербург – и в Вержболово, на границе, его подвергают тщательному обыску. Однако, предупреждённый Герценом (публикация в «Колоколе»), он оказывается абсолютно «чист» – даже подаренная Герценом фотография куда-то исчезает. Оказавшаяся при Достоевском его переписка с первой женой и братом была опечатана и препровождена в Петербург, в Следственную комиссию. Там, в присутствии путешественника, её вскрыли и прочли. До сих пор мы об этом ничего не ведали. Прав поэт: «О, сколько нам открытий чудных / Готовит просвещенья дух...»
«ЛГ»-досье
Игорь Леонидович Волгин – прозаик, поэт, историк, телеведущий. Заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. Родился в 1942 году в Перми. Окончил исторический факультет МГУ (1964). Кандидат исторических наук, доктор филологических наук, профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного института им. А.М. Горького, академик РАЕН, президент Фонда Достоевского, вице-президент Международного общества Достоевского (International Dostoevsky Society). Член Совета по русскому языку при Президенте РФ. Член Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского (председатель – А.Э. Вайно). Автор множества книг, в том числе исследований о Достоевском: «Достоевский-журналист. «Дневник писателя» и русская общественность», «Последний год Достоевского», «Родиться в России», «Ничей современник» и других. Лауреат премий правительства Российской Федерации, Ломоносовской премии, Российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ», Международной Бунинской премии, премии «Ясная Поляна» и других престижных наград.