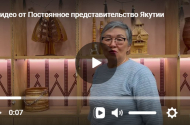Наталья Мавлевич: «Нет ничего более захватывающего, чем читать слова»

Переводчица французской литературы, благодаря которой заговорили по-русски Ромен Гари, Борис Виан, Лотреамон, Марк и Белла Шагал, Марсель Эме, Эмиль Чоран, Филипп Лаку-Лабарт и многие другие, рассказывает о пути в профессию, о принципах работы со словом, о любимых авторах, а также делится мнением о политической ситуации в России.
— Почему вы решили поступать на филологический факультет? Повлияли родители?
— Родители у меня медики: мама хирург, отец около сорока лет занимался радиобиологией. И брат и дочь тоже медики. Я окружена медиками со всех сторон, но, по правде говоря, меня эта область никогда не привлекала. Я очень рано научилась читать и читала в основном сказки. Любила Бажова, «Карлсона» перечитывала из конца в конец и, конечно, никогда не думала, что так близко познакомлюсь с Лилианной Лунгиной. Когда коллеги говорят, что прочли Тургенева в семь лет, я тихо ежусь. Я всегда была отличницей, но очень буйным ребенком до пятого класса: дралась, разбивала врагам носы, лазила по заборам…
— Ювенальную юстицию к вам не применяли?
— Один раз пытались применить, когда мы играли в Наполеона и Кутузова. Мой противник, Наполеон, жил в соседнем подъезде. Я решила написать ему вызов, но сама я еще плохо владела пером, поэтому картель, который начинался словами «Наполеон — дурак!», написал мой брат. Я закуталась в одеяло, позвонила в квартиру; мне открыла бабушка этого мальчика, и я сунула ей письмо. Бой с Наполеоном состоялся. Драки у нас были до кровянки…
— На палках?
— Ну что вы! На кулаках. Мы не избивали друг друга. Это были рыцарские дуэли скорее. Кровянка — это максимум разбитый нос. На другой день наша учительница вызвала меня и спросила: «Кто писал письмо? Я же вижу, что почерк не твой». Но я брата, конечно, не выдала. Тогда вызвали родителей. Они были умные люди и сначала поинтересовались, причинила ли я какой-нибудь ущерб. «Нет, это игра, но вы же видите, что это какая-то неправильная игра». Родители посоветовали учительнице получше понимать детей. Всё обошлось. Это была единственная ювенальная юстиция в моей жизни.
— Почему же вы переключились на литературу?
— Повлияла болезнь. В пятом классе я три месяца пролежала в постели. Делать мне было нечего. Я потеряла координацию на какое-то время. Ни драться, ни лазить по заборам, ни даже гулять было невозможно. Как и в любом интеллигентном семействе, меня учили музыке, но и никакой музыкой я, естественно, заниматься уже не могла. Оставалось только читать книги из родительской библиотеки. Она была большая. Хотя мои родители совсем не гуманитарии, но к книгам они относились с большим почтением. Я начала читать книги не с Сартра, не с Камю, даже не со Стендаля и Мопассана, а, как и положено, с Дюма-отца, Майн Рида, Жюля Верна… Таких книг у нас как раз не было, но они имелись по соседству, где жил академик Глеб Михайлович Франк (директор Института биофизики АН СССР. — А. О.) со своей женой и дочерью. А потом пошла русская классика. Я увидела, что она совсем не скучная. Наступила полная всеядность. Системы особой у меня не было. Правда, был такой принцип: если в одной книжке упоминаются другие, я принималась за них. Например, читаю повесть «Дорога уходит в даль», а там упоминается баллада Шиллера и «Ромео и Джульетта». В общем, я прочла столько, сколько в меня поместилось. Может быть, переводческая языковая матрица тогда и была заложена.
— Кто вам ближе всего из русской классики?
— Сложно выбрать. Когда я начинала читать, моим любимым поэтом и писателем был Лермонтов. Теперь, пусть это покажется банальным, я уверена, что прозу лучше Пушкина никто у нас не писал. А перечитываю чаще всего «Повести Белкина», Гоголя — с любой страницы любого тома и, пожалуй, «Войну и мир». Не для того, чтобы вспомнить, за кого вышла замуж Наташа Ростова и отчего умер Андрей Болконский, а ради чистого удовольствия.
— А когда вы стали читать книги на языке оригинала?
— После своей болячки я поняла, что ничего более захватывающего, чем читать слова, быть не может. Начитавшись Дюма и «Войны и мира», я решила изучать французский. У моей преподавательницы, очень милой молодой девушки, был свой метод: мы едва прошли первые правила грамматики — и сразу перешли к чтению ее любимых авторов. Спотыкаясь на каждом третьем слове, я целиком прочла «Милого друга». И дальше французские книги старалась по мере сил читать в оригинале. Так я и добрела до университета. Дальше никаких отклонений не было. К пятому курсу я твердо знала, что хочу переводить. А уж когда после университета попала в семинар Лилианны Зиновьевны Лунгиной, к желанию понемногу стало прибавляться умение.
— В интервью Елене Калашниковой вы говорили, что делаете черновик перевода, а потом постепенно находите ключ. Понятно, что рецепта нет, но, может быть, вы приведете пример…
— Самый яркий пример — перевод «Голубчика» Ромена Гари. Дело в том, что этот текст написан необыкновенно. Герой вырабатывает собственный язык, ломает идиомы, устанавливает диковинные связи между словами. И чем ближе к концу, тем больше текст становится кодированным. Слово означает уже не то, что указано в словаре, а то, что оно успело накопить за время жизни в контексте романа. Оно нагружается массой смыслов, иронических в том числе. Если просто прочитать последнюю страницу, покажется, что это какая-то бессвязица. А на самом деле это логическое завершение многоуровневой словесной игры. Получается что-нибудь вроде «мой предел желаний нефранкоязычен» или «бессердечная недостаточность последних предметов необходимости». Когда я дошла до половины, я вдруг поняла: с самого начала нужно было делать фразы неправильными, угловатыми. И всё переписала заново. Но это был, конечно, уникальный случай.
Второй яркий пример — Валер Новарина, современный французский драматург, абсурдист, играющий с языком, придумывающий массу новых слов. У него даже есть своя теория звукового театра. Читаешь его пьесы — и не понимаешь, почему смешно. По счастью, с ним можно было общаться во время перевода. Например, в одном акте все герои меняли имена на греческие, но непонятно, какого они пола. Спрашиваю — автор отвечает: «Да всё равно! Пишите, как хотите, главное, чтобы русские зрители смеялись там же, где смеются французские». И весь перевод был построен по принципу джазовой импровизации. Я не утверждаю, что нашла единственно верное решение, его пьесы переводили и другие, и меня сильно ругали за отсебятину.
— Вы предварительно несколько раз перечитываете оригинал?
— Конечно. Меня всегда ошеломляет вопрос, который задают и студенты, и взрослые люди: «А вы как, сразу берете переводить или сначала читаете»?
— Александр Богдановский, переводчик Жозе Сарамаго, говорил в «Школе злословия», что начинает переводить книгу, не читая, а потом уже правит…
— Может быть… У каждого есть свои приемы «разогрева», тут не может быть школы. По-моему, перед тем, как переводить, надо много раз послушать мелодию книги, а потом подобрать ее на русском языке, на другом инструменте. При этом нельзя сохранить и звук, и мелодию, и ритм, и стиль, и игру слов, и просто сам буквальный смысл… Чем-то приходится жертвовать.
Вы меня застали за подготовкой к семинару по художественному переводу. Сейчас мы беремся за маленький этюд из сборника «Как хорошо…» Филиппа Делерма. Там всего 4–5 абзацев — столько, сколько удастся разобрать за одно двухчасовое занятие. Можно, конечно, начать сразу: слова-то все понятные… Но я думаю, что вначале нужно разглядеть опорные точки текста. Если их не видеть, всё развалится. В общем, нужно понять, где ружья и ружьеца развешаны, а если сплошняком переводить, пробежишь мимо и не заметишь…
— Найти ключ — это озарение?
— Меньше всего озарений бывает в переводческой работе. Всё приходит постепенно. И нет гарантии, что тот ключ, который нашла я, открывает все двери. Может, это вообще не ключ, а отмычка. Не придумано еще, слава богу, прибора, который бы точно изменял степень адекватности перевода: вы, господин Голышев, перевели на 85% адекватно, а вы, господин Солонович, на 84%… Можно считать, что ключ найден, когда почувствуешь, что твой автор перестал заикаться. И не потому, что фразы стали гладкими. Иногда переводишь — и как с горки поехал, ух! Обычно это верный признак, что всё плохо и надо начинать заново. Ты на саночках катишься, а твой автор сзади по сугробам ковыляет.
— На пикете вы пересказывали роман, который должен выйти в конце этого года, — «Некий господин Пекельный» Франсуа-Анри Дезерабля. Сложно было работать над ним?
— Работать всегда нелегко. Но это были несколько месяцев чистого счастья. Еще по отзывам французских критиков я поняла, что роман — мой. Это такой долгий танец в паре с Роменом Гари, а Гари — мой любимый автор. И не успела я захотеть прочитать эту книгу, как оказалось, что ее вот только что прислали в издательство CORPUS среди других новинок. Я читала ее всю ночь, а утром стала названивать Ирине Кузнецовой, редактору издательства CORPUS, и выпрашивать: «Купи, купи книжку!» Ну, уговаривать не пришлось — издательские планы совпали с моими. Я не хочу сказать, что это прямо-таки великая книга, но она интересная, трогательная, заставляет смеяться и ужасаться. Там совершенно блистательная интрига. Искусство интриги особое, не все современные писатели им владеют. Словом, это виртуозное изделие, которое доставляет огромное удовольствие читателю.
— О чем эта книга? Я уже знаю, но читатели газеты еще нет…
— Там сплетаются три линии: биография автора, юного хоккеиста, который постепенно становится писателем, биография Ромена Гари и его персонажа из романа «Обещание на рассвете», еврея из Вильнюса, маленького человека-мыши с рыжеватой бороденкой. Мама Ромена Гари, а тогда еще Романа Кацева, была убеждена, как и все мамы, что ее сын станет великим человеком, кавалером ордена Почетного легиона. И вот якобы господин Пекельный угостил мальчика рахат-лукумом и попросил, когда он вырастет, рассказать английской королеве и французскому президенту, что в Вильно, на улице Большая Погулянка, в доме шестнадцать, жил такой господин Пекельный. И Гари выполнил это обещание…
Судьба автора мистическим образом пересекается с судьбой Гари. Даже матери их в чем-то похожи… Дезерабль хотел заниматься спортом, но мама настаивала, чтобы он сдал экзамен по литературе. Он прочитал из всего списка одну книжку, «Обещание на рассвете», и ему повезло: попался тот единственный билет, который он знал, Дезерабль блестяще сдал экзамен, и это было начало его гуманитарной карьеры. Про господина Пекельного он вспомнил, когда совершенно случайно попал в Вильнюс и оказался рядом с домом, где жили и маленький Роман с мамой, и этот господин. Вспомнил — и решил найти его следы. Рылся в архивах, ходил по Вильнюсу, изучал историю вильнюсского гетто, посетил Понары, место расстрела вильнюсских евреев, — только там и могла закончиться жизнь Пекельного, ни Гари, ни Дезерабль в этом не сомневаются. Вслед за Дезераблем отправилась в Вильнюс и я, прошла точно по тем же улицам вместе с той же провожатой, Далией Эпштейн, которая знает всё.
— Получается, это нон-фикшн?
— Нет, вовсе нет, хотя там много истории и исторических личностей. Я не могу раскрывать все карты, а то читателям будет неинтересно. Кроме того, автор, как и Ромен Гари, большой любитель и мастер мистификаций, которые просил не обнажать.
— У вас есть дневная норма перевода?
— Нет, перевод не нормируется, и скорость бывает очень разная. Могу только верхний предел назвать и то весьма приблизительно: больше десяти тысяч печатных знаков в день мне не перевести, даже если это будут инструкции по применению стирального порошка. Пожалуй, медленнее всего дается поэтическая проза (я не перевожу стихи, но меня, как и всякого дилетанта, тянет в эту сторону) или текст, насыщенный историческими реалиями. Вот и переводя Дезерабля, я часто целый день искала имена, названия, расшифровывала какой-нибудь намек.
— На кого из русских авторов вы ориентируетесь в переводе?
— Было бы смешно переводить разных авторов, опираясь исключительно на Толстого и Пушкина. Каждый раз подбираешь камертон и так или иначе находишь. Иногда для настройки нужен Хармс, иногда Набоков, а иногда Сорокин. А Достоевский и Гоголь редко когда идут в ход. Очень мало гоголей попадается среди французов. Хотя как раз Дезерабль бесконечно цитирует Гоголя. Да и Ромен Гари вышел из гоголевской «Шинели».
— Кто-то из авторов вызывает у вас антипатию?
— У меня мало что вызывает отторжение. Вернее, отторжение вызывает не стиль, а фабула. Я, например, не взялась переводить «Благоволительниц» Джонатана Литтела. Когда переводишь, полностью погружаешься в текст. А в мире этого романа я бы не хотела прожить полтора года. Наверное, не взялась бы переводить Селина, которого называют великим стилистом. Мне он глубоко неприятен.

— У меня есть ощущение, что рубеж русской прозы проходит по романам Саши Соколова, а потом или повторение пройденного, или беллетристика, или нон-фикшн… Ну, или просто графомания… Как вы думаете?
— Я не могу сказать, что обожаю Сашу Соколова. А если уж проводить рубеж, то скорее по Сорокину. Но мне не кажется, что литература должна обязательно принципиально менять язык. Она растет постепенно, как дерево. Мне многое нравится в современной словесности, но абсолютный лидер, на мой взгляд, — Людмила Стефановна Петрушевская. Ее проза — достойное продолжение русской литературы, причем видны и корни, и абсолютно новые побеги. Я не знаю, кого можно поставить рядом. Из последнего, что меня восхитило, — «Памяти памяти» Марии Степановой.
— А во Франции?
— Мне кажется, что там в течение уже довольно долгого времени наблюдается возврат к более традиционным формам. Французы столько всего наломали в своей литературе, что уже непонятно, чего бы еще сломать. Может быть, читатели немного устали от экспериментальной, усложненной прозы, им хочется чего-то более естественного.
— Кого из авторов вы посоветуете?
— Например, Пьер Мишон, чрезвычайно тонкий, виртуозный прозаик, некоторые его книги есть на русском языке, хотя его очень трудно переводить. Очень люблю Филиппа Жакоте. На мой взгляд, это поэт высочайшего уровня. Все называют Уэльбека, но мне этот скандалист не внушает симпатии. Французы очень высоко ставят Патрика Модиано. Никто, кроме него, не умеет так пастельно размывать лица, время, пространство. Он узнаваем буквально с первой строчки. Вообще, громких имен много. Очевидно, что ни русская, ни французская литература не собираются хиреть и умирать.
— Мы договорились об этом интервью на пикете в поддержку Олега Сенцова. Почему вы решили прийти? У вас нет ощущения, что участники протестных акций бьются лбом в бетон, как пел Борис Гребенщиков?
— Я думаю, художественный перевод — совсем не башня из слоновой кости. Невозможно хорошо переводить и равнодушно относиться к тому, что происходит вокруг. Перевод требует, чтобы твой внутренний инструмент, твой слух был в порядке. Когда вокруг так много фальши, невозможно забиться под стол и писать свои каракули.
Я не зря выросла в среде врачей, мне всё время хочется говорить медицинскими терминами. Наше общество заболело не вчера и не в семнадцатом году. В социальном организме нарушена взаимосвязь жизнеобеспечивающих систем. И огромное количество людей даже не задумывается о том, как этот организм функционирует в норме, как происходит экономическое кровообращение, каковы правила политической гигиены. А если гигиеной пренебрегать, болезнь обостряется. Вот сейчас у нас тяжелый рецидив. В девяностые годы, которые так модно проклинать, складывались условия для того, чтобы после неизбежного кризиса организм становился здоровым. Гражданские свободы, отмена волюнтаристской социалистической экономики — это были правильные лекарства. Но, увы, антибиотики действуют только тогда, когда принят полный курс. В нашем случае этого не произошло. И все-таки было невозможно представить, что после всего прожитого за пятнадцать лет (с 1985 года) в Кремле появится такая вот фигура и страна покатится в авторитаризм, президент будет править по дворовым законам, а законы здравого смысла, экономики и медицины будут попраны вместе с конституцией. Я читаю новости — и не понимаю, кому могут принести пользу, например, все эти сирийские дела. Мы наблюдаем злокачественное воспаление национальной гордости.
— Вы участвовали в диссидентском движении?
— Мои родители исправно слушали «Радио Свобода» и прочие «голоса», но появление дома самиздата и тамиздата не сильно приветствовали, боялись за меня. Я, конечно же, читала Солженицына, Сахарова, эта литература тогда, что называется, ходила по рукам, но не принадлежала к диссидентам и знала о них не так много, «Хроника текущих событий», например, до меня уже не доходила.
— Вы надеетесь, что политическую матрицу можно перепрограммировать?
— Разумеется, хочется, чтобы люди немедленно прониклись чувством собственного гражданского достоинства, воспылали любовью к свободе и вышли на улицы в массовом мирном протесте. Чтобы не десятки свободно дышащих сменялись в пикете у администрации президента, а вся площадь была ими запружена. Но чудес не бывает. Общественное движение начинается с совета дома, жителям которого не всё равно, что творится во дворе, где их детишки бегают. Демократия опирается именно на эти вещи. Любой француз, немец, чех — да кто угодно — прекрасно понимает эту связь: он платит налоги государству, а оно открывает школы и поликлиники. Даже в маленьком городе люди чувствуют себя гражданами. В этом нет ничего высокопарного. Гражданин — это горожанин просто-напросто. У нас другая модель: там царь, а здесь мы. Государство что-то нам дало? Заплатило пенсию? «О, спасибо!» Не дало? Будем как-нибудь изворачиваться, лишь бы оно нас не задавило… При каждом новом накате реакции в организме срабатывают одни и те же защитные механизмы. Всё катится в советское время — и люди окукливаются, начинают жить частной жизнью, плотно закрыв глаза. Большинство, к сожалению, нашу нездоровую политическую ситуацию воспринимает как погоду, климат, на который невозможно повлиять.
Сейчас доминирует чувство, что мы сидим в карете, а лошадей понесло. Но это еще не самое худшее. Гораздо хуже, если кажется, что сидишь в болоте и задыхаешься. Но я вспоминаю сказку «Сивка-бурка»… Один раз прыгнул конь — трех бревен до окна царевны не допрыгнул, другой раз — уже двух… Возможно, после оттепели, после перестройки будет новый скачок, вот только что́ подстегнет нашу Сивку-бурку: внутреннее развитие общества или катастрофа?
Впрочем, находясь внутри системы, мы не можем предвидеть, что будет. Если завтра, упаси бог, откроют концентрационные лагеря, недостатка в палачах не будет. Однако, на мой взгляд, в обществе нарастает слой людей, на которых может опираться нормальное государственное устройство. Шансов на то, что мы подскочим еще на бревно выше, сейчас больше.
Но я не возьмусь быть пророком. Ощущение, что конец света завтра, посещает, но я понимаю, что это может быть хронический конец, который растянется на весь остаток моей жизни. Главная надежда на заветного крота истории. Я считаю, надо просто делать свое дело и нельзя молчать, а все живые соки скапливаются — и крота питают.
— Спасибо вам за интервью! Есть еще что-нибудь, о чем вы хотели бы сказать читателям «Троицкого варианта»?
— Газета — хорошая! Пусть она будет и никуда не исчезнет.